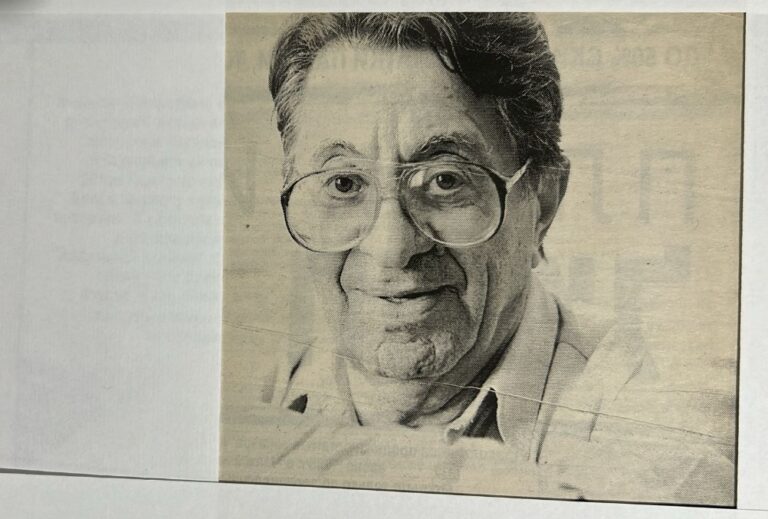Я умер рано утром, еще не развиднелось, и оконные проемы смотрели вглубь комнаты черными малевичскими квадратами.
Даже уличные фонари – размыто красные одуванчики на тонких ножках – внезапно погасли.
Стена девятиэтажки напротив лыпала немыми проемами.
Город безмятежно спал.
Не спала моя жена Ирина. Она тихонько плакала.
Я не сразу понял, что перешел в иное измерение и качество и поэтому спросил:
— Что случилось?
— Киска умерла, — прорыдала жена.
Наша домашняя кошка даже в ветлечебнице числилась как «Киска». Попав в городскую квартиру маленьким пушистым котенком и дожив до отведенного ей срока, она так и не удостоилась нормального кошачьего имени типа Мурки, Машки или Василисы. Родители, то бишь хозяева, проявили преступную безалаберность и тем самым нарушили известный закон всемирного гуманизма, провозглашенный еще незабвенным Антуаном де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». — Не дали кошке нормального имени. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет…»
Наверное, поэтому она и затонула, извините, — умерла. И я вместе с нею.
«Нечего посыпать голову пеплом, надо хотя бы соблюсти приличие, так сказать, традицию – похоронить бедняжку, помянуть» — пришла мне на ум здравая мысль, если покойники способны мыслить.
Если говорить откровенно, то мертвецом как таковым я себя вообще-то не чувствовал, но с головой и внутри меня что-то произошло. И это что-то напоминало переселение душ, реинкарнацию либо на то похожее.
После недолгих совещаний решили: хоронить будем утром, когда рассветет, под труну (гроб — по-белорусски) сгодится порожняя обувная коробка.
Сын вывезет велосипедом за город и там закопает. Мне, как самому безотказному в семье, поручалась наиболее неприятная задача – уложить тело. Что я без всякой брезгливости и сделал. А как еще перед несчастной Киской было оправдаться?
Трупик усопшей окаменел. Лапы согнулись с трудом. Некогда роскошный пушистый хвост удалось не без труда втиснуть в картонную емкость из-под сыновних туфель фирмы «Марко». Коробку-гробик я заклеил скотчем крест-накрест. Как-никак взаправдашнюю душу живу погребем.
Бесцельно я бродил по комнате, натыкаясь на мебель; в голове и душе был полный раздрай.
«Да, надо помянуть бедняжку, как-никак – член семьи», — созрело окончательное решение.
Спиртное у нас в квартире не держат. Даже на пожарный случай. Так когда-то решила моя благоверная. Без комментариев. Но какие поминки без алкоголя?! Без обязательных трех поминальных рюмок?!
Ближайший «ночник» с экзотическим названием «На болоте» — километрах в трех. Бывшая заболоченная окраина, а ныне – благоустроенный городской район. Единственный ночник на весь трехсоттысячный город. Туда?
Никуда не деться – больше некуда. Как и всегда, наш путь — во мраке…
Обычная моя куриная слепота в ночной полутьме, оказывается, куда-то пропала: жилые строения вдоль пустынного асфальта и казенные здания выглядели, как в прицеле ночного видения – мерцающими зеленоватыми силуэтами.
Мрачные бараки – многоэтажные бетонные коробки со спящими людьми в индивидуальных камерах-коммуналках — хранили безмолвие.
Из темных подворотен отвратительно воняло пищевыми отбросами и мочой, а моя мягкая поступь сопровождалась царапаньем когтей по тротуару. Как бездомный, паршивый кот, я осторожно пробирался по известному мне курсу между мокрых скамеек и деревьев, мусорными контейнерами и автомашинами, приткнувшимися к обочинам. Враждебный спящий город на каждом перекрестке таил опасность и предупреждающе сигналил желтыми, похожими на мои, глазами светофоров: внимание!!!
Но мне плевать на опасность, откуда бы она ни исходила. Я – кошачьей породы, и хожу, куда и когда хочу. Я не приемлю законы покорного стада. Наверное, я понял это уже давно, гораздо раньше, чем наша любимая Киска ранней ранью испустила последний дух и отправилась в свой кошачий рай, а я проснулся от тихого плача жены. Во мне всегда жило мятежное желание быть самим собой, а значит, — царапаться и кусаться. Где лизнуть, а где гавкнуть – это не про меня. Мне омерзительны ухоженные и подстриженные, домашние шавки: те, что гордятся своими поводками и ошейниками и лижут руки своих угнетателей. Невероятную брезгливость и отвращение вызывают у меня суки и кобели, которые, никого не стесняясь, обнюхивают промежности своих сородичей и забрызганные их мочою столбы и деревья. Скулят при виде больших породистых собак и жмутся к ногам своих покровителей. Овчарок я тоже ненавижу: они жрут чужой помет и готовы по команде загрызть любое живое существо.
Еще никогда и никому из этих раскормленных на дармовых хлебах холуев не удавалось взять меня – проворного, отчаянного кота. Я выцарапаю глаза любому ублюдку, загнавшему меня на дерево, истекающему внизу слюной и бессильной злобой в бесполезном служебном рвении.
Из всего собачьего племени я уважаю лишь северных лаек и хасок – прирожденных трудяг, охотников, следопытов.
С этими собачками я близко общался на Русском Севере и в Сибири, и сохранил симпатию к ним до седой старости.
Луна светит ярко-ярко, но не вызывает желания скулить и выть на нее. Пусть цепные псы и отшельницы лисы заражаются в обожаемом ими лунном свете чесоткой и бешенством. У меня кошачий иммунитет даже к Большой Луне. Мы с тобой одной крови, Охотница-Луна! Я легко обхожусь без твоего спонсорского света и чую свою добычу даже в кромешной тьме.
Близкие огни ночного гастронома пригасили мой воинственный кошачий пыл, еще ярче высветив ясность цели. Ой, ли?
Ночью? Водку? Из горла? – Давай!
Нет, не то. Не ради горькой стопки понесла меня в блуд осенней ночью мятежная моя натура, пришпоренная Кискиной кончиной. Заставила отвести взгляд от укоризненных, полных слез, глаз жены. С оглушающим в тишине скрежетом спуститься в тесной кабинке в шахтный забой лифта. Спотыкаться на ступеньках неосвещенного подъезда и на ощупь переступать коварные бордюры. Жмуриться от издевательских лучей редких встречных фар. Переться черт знает куда с риском нарваться, встрять, угодить. Воплощать в реальность известную поговорку «Дурная голова ногам покоя не дает».
…Однажды в далекой молодости в каком-то городе, неважно каком, в мои уже не юношеские, но еще не взрослые годы случилось мне общаться со случайным забулдыгой. Надыбались мы за мокрым, покрытым пластиком столиком в тесном закутке заштатной советской пивнушки. На тот год и час к пиву уже не подавали восхитительную золотистую воблу и тарань, а вареные красные раки – с длинными черными усами и страшными клешнями — остались в памяти лишь древних завсегдатаев пивных, если свидетели пиршества смогли дожить до судного дня со своими язвами и циррозами. Не вошли еще в пивную моду и соленые орешки и прочая попкормовая дребедень, звездный час которой расхрустелся и расчавкался в наши продвинутые дни. Не требовали завсегдатаи забегаловки и долива пива — воды в граненых бокалах по доброй традиции и без того было предостаточно.
Пришлось пить пиво (или похожий на него напиток желтоватого цвета почти без пены), как говориться, всухую — присаливая края посуды.
Мой, громко сказано, сотрапезник выглядел соответственно табели о рангах — то ли полуспившийся интеллигент, то ли недоперепивший разночинец, то ли бомж на парадном выходе. Не по размеру болоньевая куртка неопределенного цвета и матерчатая авоська при нем. Черные крупинки глаз за круглыми очечками — как у рака. Сморщенная шейка с острым кадыком – соответственно. Шею венчала большая голова с заскорузлой летней шляпой на макушке. Голова была для того, чтобы есть, то есть, пить и… говорить, говорить… Жечь глаголом сердца людей.
— Ты, парень, не понимаешь суть жизни, — вещала голова. – Думаешь для чего я тут? Нектара вкусить? Пивка этого дрянного похлебать? Нетушки! Помнишь у Максима Пешкова, Горького нашего горемычного? — В люди! Евойный, значит, дед, научал мальца: мол, не медаль ты, Ляксей, у меня на шее висеть – идит-ка ты в люди!!! В люди!!!
Пивной люд, между тем, проникнутый духом масонского братства и приобщения к заветному ритуалу, блаженно сосал пивко, дружно гомонил, изредка приветствовал вновь прибывших членов ложи негромкими возгласами и кивками. Шапочных знакомцев у моего собеседника оказалось много. Каждого из них «вольный каменщик» привечал приподнятием шляпы.
Очередной «здрасьтевам», причаливший к нашему столику, извлек из широких штанин два аптечных пузырька коричневого стекла. «Настойка боярышника» значилось на этикетках.
— Натурпродукт! Не какая-нибудь магазинная дрянь! – прокомментировала Шляпа, сцеживая содержимое в бокал. – Будешь? Чистая трава на спирту, польза огромадная!… Считай, задарма!
«Нам такой хоккей не нужен!» — решил я и направился к выходу из пивной.
— В люди! Не забудь: в люди!!! – неслось мне вдогонку.
Наверное, мой давнишний «перстоуказующий» собеседник в чем-то оказался прав. Ведь недаром говорят, что на миру и смерть красна. Через многие-многие годы вспомнилось, отозвалось «в минуту душевной невзгоды» и привело к ярко освещенному ночнику со смутной надеждой на чье-нибудь понимание и «руку подать»…
Огнища магазина в предутренней мгле не проснувшегося города и толчея вокруг навевают генетические воспоминания о пире во время чумы. Откуда народец? А на работу или учебу через час-другой?
Вереница шахматно-одноглазых такси на стоянке выстроилась, как козлы на водопой. Одиночные пешие гонцы – мелкими пташками устремляются к источнику. Самодовольный бульдог в кожаной куртке в окружении нескольких сучек в моднячих прикидах прет напролом, оттесняя в стороны прочую мелюзгу.
И я туда же – расстроенный котяра с дежурной купюрой в кармане и потаенной мыслишкой разбавить горькой нахлынувшее горе, поплакаться в чью-то жилетку.
Скатерть-самобранка водочного отдела никогда не оскудеет по определению. Бери, што хош – коньяк, бренди, водяру любой марки, калибра и розлива, дорогие вина. Дешевые, «яблучковые», в ночное время не выставляются, нет резона. Кому? Ясное дело -торгашам. Кому же еще?! Иному страждущему и глотка борматухи с лихвой хватит в ссудную минуту, чтобы не сесть на коня, а где его добыть, этот глоток, если, случается, белочка вот-вот замаячит и никакой торговой точки поблизости и в кармане вошь на аркане да блоха на цепи?
С немой мольбой глядит на меня серая мышка — невзрачный мужичишка неопределенного возраста с лицом кандидата на инфаркт. Око болезного видит, какой напиток я беру, да зуб неймет. Засовестившись, киваю ему: мол, ступай, человече, следом, налью во спасение…
— Вот спасибочки, вот выручил! У меня метр имеется, загрызть тоже … – талдычит человечек мне в спину, пока я рассчитываюсь на кассе и с поллитровкой в руках выхожу из магазина на улицу.
Заходим за здание в плохо освещенный двор. Усаживаемся на каких-то ящиках.
— У меня, знаете ли, горе. Кошечка умерла, надо помянуть, ведь член семьи.., — как бы оправдываюсь перед незнакомцем.
— А-аа… Понимаю. Беда! – произносит он, не отрывая страждущий взгляд от процесса раскупорки и услужливо подставляя трясущейся рукой стакан, извлеченный вместе с двумя яблоками из карманных недр. – Ты по булькам считай, по булькам, не ошибешься…
Жадно проглотив набульканное, куснув и зажевав яблоком, продолжил с места в карьер:
— Ух, пошла. Сейчас отпустит… А кошки, как дети малые. Послушные бывают, капризные. У нас, помню, настоящая тигра жила. Пропала. Потом сиамку взял. Предательница и курва. Как моя покойная жинка. Вторая сейчас у меня. С первой развелись. Пригрел на свою голову, соблазнился. Не угодить было стерве, царство ей небесное! Держи стакан. Полегчает, будь спок.
Не соврал бедолага. После выпитого действительно полегчало. И тут меня будто прорвало.
Рассказал, как отпаивали молоком из пипетки нашу малышку в младенческом кошачьем возрасте, какой переполох, трагедия произошли, когда она, бедолага, сорвалась с подоконника девятого этажа и чудом осталась жива, как выхаживали бедную Киску, после этого, про тревожные дни около несчастной, про надежду выздоровления…
После очередной операции, в лечебной попонке с узлами тряпичных завязок на спине кошка выглядела беспомощно и забавно, и мы называли ее «сороконожкой»…
Она была сугубо домашней, городской, и, опасаясь инфекций, мы почти никогда не выносили ее на улицу, разве что в сумке по дороге в ветлечебницу. Наверное, поэтому, она с какой патологической жадностью обнюхивала и облизывала побывавшую вне квартиры обувь домочадцев и ела траву, безошибочно выбирая нужные растения среди попадавших в квартиру букетов, овощей и зелени с рынка, ягод и грибов.
«Киска», даже проголодавшись, не выпрашивала подачку, а садилась напротив и пристально смотрела хозяевам в глаза. Она вообще не любила и не умела мяукать, а неожиданно раздавшееся в квартире «мяу» расценивалось домочадцами как сигнал тревоги. Вечером накануне своей кончины – и кто бы мог предположить!- она допоздна лежала на кухонном полу возле нас с женой, и смотрела, смотрела… Что она хотела сказать? Пожаловаться? Позвать на помощь? Наверняка, ночью, в критическую минуту, она позвала, попросила – но мы, спящие, не услышали прощальный зов… Проснулась только моя жена Ирина – когда все самое страшное уже произошло…
Спасибо тебе, незнакомый друг: выслушал, посочувствовал. И три раза, как и положено на поминках, из сосуда за компанию причастился.
Человечишко, видать, рассчитывал на продолжение банкета, в бутылке еще оставалось: разволновался, пытался меня задержать, что-то мудрёное про аллергию на кошачью шерсть поведал. Прости, брат, прощай.
Болезный вернулся на сторожевой пост, а я с чувством исполненного долга пёхом отправился в обратный путь.
Светало. Город уже вовсю шумел, шумело у меня в голове. Я вновь почувствовал себя в кошачьей шкуре. Враждебность ночных кварталов пропадала с усилением естественной освещенности, вводя обывателя в заблуждение показушным миролюбием. Но кому, как не нам, одиноким котам, не знать и не чувствовать этот подвох? Скрытая аллергия таилась отнюдь не в моей шерсти, а в настороженных автомобильных гудках, в змеином шуршании пролетающих шин, в визге тормозных колодок лихачей, в бенгальских всполохах троллейбусных поводов. Назойливо шаркали подошвы. Пронзительно цокали каблучки. Проснувшийся народ куда-то шел, ехал, отчужденно спешил, топтался на автобусных остановках, кучковался у входов открываемых гастрономов и универмагов. Каждый – вещь в себе. И в то же время казалось, что любой встречный сверлит меня – праздного в будний день, хмельного, неприкаянного — осуждающим взглядом. Какое им дело до меня и до моего личного горя? До моей внезапно почившей в Бозе домашней кошки с незатейливым именем «Киска», чья безвинная душонка каким-то непостижимым образом переселилась в мою? Но, может быть, в своей прошлой, другой жизни, я и был обычным, добродушным и ласковым, доверчивым котом, а несправедливости бытия, враждебность, подозрительность и жестокость окружающих озлобили меня, ощетинили, особачили?
Вспоминаю.
…Я шел босиком, точнее – в одних носках. Налегке. Ранней ранью. Поздней осенью. По Москве. По какой улице или проспекту – тогда не понимал да и давненько это было, но чувствовал себя паршиво. Спустя энное время, конечно же, выяснилось и прояснилось, в каком районе мегаполиса ваш покорный слуга ненароком оказался – где-то на Якиманке. Той самой, куда лирический герой популярной в мои юные годы песни слал приветы, бросая камешки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза.
Было зябко и стыдно. Носки мои новенькие, надеванные специально в дорогу, быстро прорвались на жестком асфальте, пятки, подошвы мерзли. Еще наличествовали брюки и легкий пиджак, а куртка «Аляска», теплые ботинки и сумка с вещами и документами сделали ноги накануне вместе с сердобольным незнакомцем. Но о нём – позднее.
Встречных и попутных прохожих на московской улице едва ли заботили мои неудобства, равно как и откровенный вид босяка. Подумаешь, невидаль! Мало ли странного народа снует по столице?! Приезжая лимита изо всех сил делала вид коренных москвичей, офисный планктон косил под озабоченных менеджеров, лакеи в пиджаках корчили из себя бар, местные неопохмеленные гении, вольнодумцы и карбонарии – а таких распознать за версту — проявляли мотивированную потусторонность. Прочей же пешей разночинной публике тоже все и вся было до фени. В том числе – моя босоногая особа.
В Москву меня привела служебная необходимость. Прилетел на недельку, правда, не с далекого берега пролива Лаперуза, а из тюменских болот, из города нефтяников Когалыма, где в то время работал. Встретился, договорился, разрулил кое-какие делишки в офисе нефтяного управления – и застрял на Белорусском вокзале, откуда пытался выехать на денек в родную Беларусь. Не было билетов. Не было где приткнуться в переполненном зале ожидания. Маялся в ожидании возле окошек билетных касс до поздней ночи в надежде исполнения заветного заклинания «сим-сим, откройся!» Не открывалось. Зато подвалил человечек евангилиевской наружности и предложил: мол, ехать на метро недалеко, переспишь, как человек, и с билетами утречком поможем. За скромную плату, чуть больше казенной. Совсем чуть-чуть, детишкам на молочишко.
Обрадовался: открылось! «Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется вам!!!»
Нырнули в метро, поехали. Вынырнули, плутали, зашли в какой-то двор. Вот эта улица, вот этот дом, вишь, окошки горят на седьмом этаже…
— А давай-ка пивка хлебнем прежде, чем подниматься наверх и спать укладываться, — предложил евангилиевский Лука. – У меня в сумочке заначка осталась…
Почему бы и нет?! Я из дармовой пивной бутылочки добрую половину с устатку и жажды хлобыстнул – и прибыл по назначению. Очнулся тут же на лавочке, когда уже рассвело – без ботинок, без куртки, без сумки, без документов и денег… Зато с дурью в башке от какой-то отравы, вероятнее всего – клофелина от евангелиста Луки. И с единственным разумным вопросом: «А ботинки-то зачем снял? Что ли у москвичей обувь в дефиците?»
Куда брату крестьянину подеться? Добираться в офис своего нефтяного управления? Стыдота, босиком… Не поймут. Возвращаться на ж-д вокзал? Как пить дать, милиция заметет, поди объяснись, беспаспортный, что да как… И даже позвонить из автомата не за что и, по правде сказать, некому… Оставалось лишь положиться на волю волн, и куда-то брести, брести, выбирая тихие улочки, потупив взгляд и опустив голову, дабы не встречаться глазами с прохожими.
Каким-то внутренним, звериным чутьем осознал, сообразил – в люди!!!
В люди – как завещал на заре моих юношеских пивных университетов давний застольный оракул.
Все-таки зря судачат, будто нет пророков в родном отечестве! В ранний час возле московской пивнушки, куда добрел по наитию, оказалось относительно многолюдно. Для кого-то из присутствующих – островок жизни, салон душевного отдохновения. Вокруг столиков на укромной площадке во дворе какого-то дома, — по двое, по трое разношерстных граждан, сосредоточенно постигающих смысл бытия. Пивнушка, как пивнушка – с барной стойкой и полной теткой в белом халате за пультом, с пенящими бокалами, нет, вру – высокими фужерами, Москва! С вялеными рыбьими хвостами и понимающими, заговорщицкими взглядами столоучастников с прицелом на вино-водочный магазинчик, расположенный неподалеку. Душевная публика — в глаза не плюнут…
Пристраиваюсь к крайнему столику с облокотившимся на круглую столешницу гражданином примерно моих лет. Заговорить не решаюсь.
Однако московскому мазурику всего-навсего мимолетного взгляда хватило, дабы оценить мое внутренне и внешнее состояние и насущные потребности.
— Пей! – пододвинул мне недопитых полфужера.
Дают – бери! С каждым глотком в утробу вливалась уверенность, что здесь помогут, поддержат, не бросят, а нетленный завет «В люди!» сработает…
Через каких-нибудь полчаса я сидел с москвичом по имени Николай (почти Чудотворец) в его однокомнатной холостяцкой квартире на Якиманской набережной в старинном многоквартирном доме с видом на Водоотводный канал и примеривал ношенные, но еще крепкие кеды, пришедшиеся мне впору. Попутно рассказывал свою грустную историю.
Московская пауза растянулась суток на трое… Причина не только уважительная, но и обнадеживающая – из Домодедово вылетала наша Сургутская нефтяная вахта, и требовалось дождаться даты отлета. Все это я узнал, дозвонившись в родное управление с квартирного телефона хозяина. Проблема с деньгами и паспортом отпадала сама собой.
Москвич Коля, как оказалось, был полностью лишен столичного чванства и достаточно хлебал в своей жизни не только пива с водочкой, но и горюшка, поэтому понимали мы друг друга с полуслова. Особенно сошлись в вопросе антагонизма богатых и бедных, противостояния хижин и дворцов. Холостяцкая «хижина» москвича служила наглядным аргументом нашему единомыслию: голо, голодно, неуютно… Сказывалось «отсутствие наличия» хозяйки-жены, бросившей больного онкологией мужа разгребать проблемы в одиночку…
«Я по траве люблю босиком, цветы нюхать … — признавался мне Коля длинными вечерами умных наших бесед за скромным столом. — Мне б в деревню уехать, к бабке, травами подлечиться… Да нет ее, бабки, померла, и в родительской деревне никто не ждет, некому…»
Николай подрабатывал грузчиком при каком-то столичном ресторанчике, таскал домой с дозволу начальства остатки ресторанной роскоши. Существовал, по его мнению, безбедно. Правда, с деньжатами было слабовато. Зато – крыша над головой и московская прописка, которую надо стеречь.
(После нашей встречи с Николаем сочетание «московская прописка» стало у меня почему-то ассоциироваться со словом «удавка»…)
Старинный дом, серый и обшарпанный, как поведал позже хозяин, подлежал сносу и расселению, которые растянулись на года. Многие квартиры пустовали. В освободившихся обитал разноязыкий интернационал. «Живи, сколько хош!» — предложил мне чудотворец Николай, на что я обещал на досуге подумать.
Здание тряслось от движущихся где-то поблизости трамваев, на противоположном берегу канала высилась и горела огнями в ночи громада фабрики, кажется, кондитерской, ухал бессменно работающий копр. Каменные джунгли ночной Москвы вокруг зловеще полыхали головешками высотных зданий, давили душу и слух приглушенным и враждебным гулом чужой незнакомой жизни.
Цветами и травой здесь не пахло.
Через какое-то время я улетал вахтовым рейсом из Домодедово в Сургут. Улетал из поздней осени в раннюю тюменскую зиму. В потертых летних кедах, в курточке с чужого плеча… С ощущением аромата душистой травы и луговых цветов на лице.
Уже находясь на борту вахтовой «тушки» неожиданно вспомнил: это был запах дешевого цветочного одеколона, которым побрызгался в «хижине дяди Коли» после того, как ободрал тупым лезвием безопасной бритвы трехдневную московскую щетину на своих щеках…
… Почему московский эпизод вспомнился именно сегодня, в «ночь длинных ножей», ответить затрудняюсь. Смерть домашней любимицы, чья кошачья душа на какое-то время, как показалось, переселилась в мою, что-то в ней перевернула, разворошила, растревожила. Заставила взглянуть на себя со стороны. Добавила новые ощущения. Ведь, учит наука, за каждым из нас тянется энерго-информационный шлейф, называемый телом памяти человека. Данная тонкая материальная структура — тело памяти — как база данных хранит в себе подробную информацию о всех событиях, которые происходили в жизни каждого индивидуума от точки рождения до момента «я здесь и сейчас» — момента, в котором располагается физическое тело человека в пространственно-временном состоянии. И эти события не исчезают, не пропадают втуне, а хранятся внутри нас и могут в любой момент о себе напомнить. Наверное, — во спасение. Мудро, нечего сказать…
Потери трансформируются в приобретения? Странная, жестокая логика. А может быть, все гораздо проще? И не надо думать и гадать, зачем и почему мы живем, почему любим свои семьи и домашних кошек и собак, к чему на газонах – трава, которую скосят, и на клумбах цветы, что завянут или их сорвут? И терять дорогих нам и близких — такая же обыденность и неизбежность, как и сама жизнь, и что бы ни случалось в ней – во благо? Наверное, да. Ведь ей, этой жизни, нет никакого дела до нас, до наших хлопот, бед, ошибок, достижений, удавок и замкнутых кругов, это мы к ней – с вопросами и претензиями…
«Тучи были горды, но плыли по ветру. Дороги лежали накатанные, но мертвые. Шепот летних трав был неясен, они вызрели». — Восточная мудрость, однажды вычитанная в одной умной книжке, хранится в моих записях как прикладной афоризм.
…Я возвращался домой по тротуарной дорожке ожившего города, упорно не желавшего добреть. Спешил утешить жену. По принципу «Куда ночь — туда и сон» ночной морок в душе рассеивался. Взгляд не нашел привычную кривую березку, стоявшую когда-то неподалеку нашего дома почти на краешке дорожки. Деревцо зачем-то спилили. А ведь это была обычная березка – с белой в пупырышках корой, с длинными, до долу, плакучими ветвями. Ее кривизна помешала кому-то из коммунального начальства жить, поэтому не придумали ничего умнее, как лишить жизни ее…
Шаги мои чередовали прошлое и будущее, а настоящим впереди семенила хромая ворона, не желавшая становиться пластилиновой, — и в синем небе размытый инверсионный след пролетевшего самолета. След висел неподвижно и напоминал гигантский белый шарф, оброненный беспечным владельцем.
— Наверное, все-таки это не ворона, а недавно покинувшая гнездо молодая галка – будущая невеста, — подумал я о попутчице на тротуаре.
К галке присоединился пернатый кавалер, и парочка поспешно свернула на травяной газон. Но птиц вспугнула бродячая кошка, и они взлетели на ближайшее дерево.
Жизнь продолжалась.
Порыв легкого ветерка донес до лица какой-то сладко-дурманящий аромат.
Я узнал этот запах, схожий с отцветавшей в эту пору липой — неожиданный, редкий, чарующий…
Так бывает в моем городе ранним утром в середине лета: по пустынным дорожкам тихих кварталов возвращаются к очагам блудные сыновья и юные скоропослушницы, с неба свисают свадебные шлейфы, а на окраинах зацветает бузина…
Для полной картины душевной идиллии и завершения сюжета не хватало маленького пушистого котенка, беспомощной сиротки-отказницы, подобранной мною на улице. Но все оказалось прозаичней и проще – потому что не зря, ох, не зря живет в нас память пространства, грешных и праведных дел и событий, свершенных и произошедших в настоящей и прошлой жизни!
— Принимай претендентку на трон!- Шутливо приветствовали меня дома жена и сын, завершившие к моему возвращению из блуда погребальные мероприятия и отыскавшие в интернете на сайте «Отдадим в добрые руки» фотографию симпатичного котенка.
С карточки на меня глядели распахнутые озорные глазенки рыже-черной крохи с белой грудкой и такими же белыми носочками на лапках.
— Ну, здравствуй, Киска! – сказал я и незаметно для домочадцев смахнул счастливую слезинку.
И мы сообща начали придумывать нашей кошечке красивое имя.
КОНЕЦ