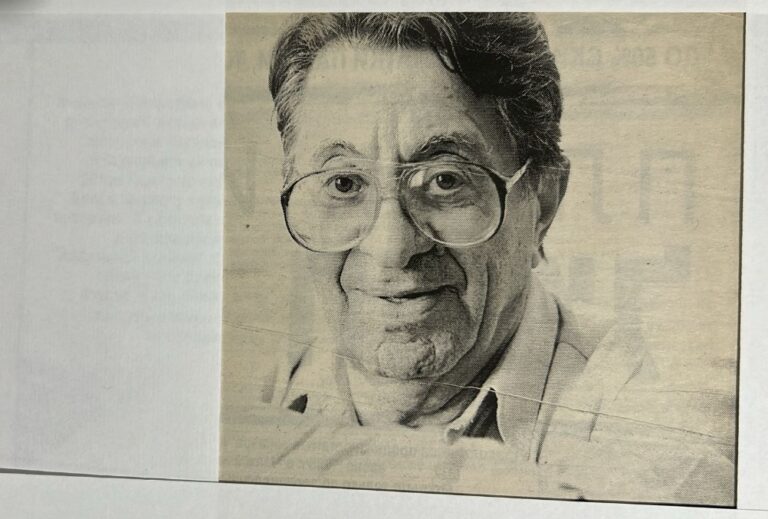Фима Гольдин стал сиротой в восемь лет. В тот год на Черниговщине внезапно вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Очаг заболевания на удивление быстро локализовали, а потом и ликвидировали, но его родителям это было уже безразлично. Страшная болезнь погубила их буквально в считанные дни, а чудом не заразившегося Фиму забрал к себе мамин двоюродный брат. Так мальчик впервые оказался в Гомеле.
Собственно, отец с матерью назвали его Хаимом, что в переводе с иврита означает «жизнь». Но то, что было вполне естественным в маленьком украинском городке, почти две трети населения которого составляли евреи, оказалось совсем не таким в Гомеле. Который хоть и считался «еврейским» городом, но… В общем, дядя решил, что имя Ефим не будет так резать слух местным обывателям православного или католического вероисповедания. Конечно, это не Иван, Василий или Казимир, но не крестить же его, в самом деле, насильно.
Сам дядя Тадик (от польского Тадэуш) уже второй десяток лет регулярно посещал костел на Румянцевской, хотя дома все говорили в основном на идиш. В отсутствие чужих ушей, разумеется.
Вся семья жила на втором этаже, а на первом располагался небольшой продуктовый магазин, который маленький Фима очень скоро зачислил в разряд своих злейших врагов. Ибо в его ежедневные обязанности входило мыть там пол рано утром (перед открытием) и поздно вечером, убирать мусор, протирать стекла. И даже раз в неделю смазывать дверные петли, чтобы не скрипели.
Когда он немного подрос, к уже имевшемуся перечню добавилась разгрузка товара, уборка прилегающей территории, а также поддержание в должном порядке маленького садика, посаженного во дворе. А сын хозяина, на два года старше Фимы, в это время учился в городском реальном училище. Готовился со временем достойно заменить отца в семейном бизнесе.
Но тут грянула Первая мировая… И шагать бы наследнику на русско-германский фронт, однако пан Тадэуш заранее подстраховался. Еще оформляя опеку над сиротой, он приписал Ефиму три года. Так что в действующую армию забрили «старшего».
Через несколько месяцев во время наступления Фима был легко контужен и попал в плен. Два года он отработал подсобным рабочим на шахте, на всю жизнь основательно испортив себе легкие, а в начале 1917-го оказался у бауэра, жившего среди своих полей километрах в семидесяти от Мюнхена.
Его статус военнопленного от подобной рокировки никак не изменился, однако жизнь на крестьянском подворье текла по своим законам. С одной стороны он был дармовым и юридически абсолютно бесправным работником, а с другой – старшим после хозяина мужчиной в доме. И последнее в пределах отдельно взятого крестьянского хозяйства в Баварии тех лет существенно перевешивало все остальное.
Работал, ел и спал Ефим наравне с остальными членами семьи, а когда хозяин отлучался по торговым или иным делам на несколько дней, то за старшего в доме оставлял его. Причем жена герра Шульца, дочь – ровесница Фимы и тем более сын, который был реально его на три года младше, а по документам – так на все шесть, относились к этому совершенно спокойно. Понятно, что пленный русский своей кратковременной властью никогда не злоупотреблял, но его самолюбию это льстило.
Об октябрьском перевороте в России Гольдин узнал от возвратившегося из очередной поездки хозяина.
— Знаешь, Ефим, ты, конечно, можешь сейчас вернуться домой, — сказал герр Шульц, когда они вдвоем разгружали привезенные из города товары. – Хотя я бы тебе не советовал. Война пока продолжается. Да и эта, как ее называют русские, революция вряд ли добавила порядка и спокойствия в твоей стране. Оставайся! Мой Хольгер еще мал, да и я хочу, чтобы он через год-другой поехал в город учиться на механика. Ты и так почти член моей семьи. Теперь я буду тебе еще платить и определенный процент от прибыли. А там, смотришь, и невесту себе найдешь…
Фима прекрасно понимал, что, говоря о невесте, хозяин имеет в виду, прежде всего, свою дочь. И, положа руку на сердце, следовало признать, что Хельга ему нравилась. Русоволосая, среднего роста, стройная веселая девушка частенько ловила на себе внимательные взгляды «этого загадочного (как она часто повторяла) русского». Ничего необычного Гольдин в себе, конечно, не замечал, да и неумело-кокетливые улыбки Хельги говорили, скорее всего, о другом.
К тому же, герр Шульц уже несколько раз, как бы случайно, заводил осторожный разговор о том, что евреям в Германии живется гораздо лучше, чем в России. А тут еще эта революция.
В общем, Фима не стал спешить с возвращением под сень родных берез и осин, которых, если уж совсем честно, в Германии было чуть ли не больше, чем на ставшей родной Гомельщине.
И решительно заговорил об отъезде только поздней весной 1923 года. В большевистской, как ее называли все немецкие газеты, России гражданская война наконец-то закончилась, жизнь входила в нормальное русло. А жизнь на хуторе (если считать российскими мерками) уже порядком поднадоела. Да и хозяина не хотелось обижать отказом от женитьбы на его дочери.
Ефим не мог даже в душе четко сформулировать удерживавшие его от этого шага причины. За последние годы Хельга еще больше расцвела и похорошела. Да и… Что греха таить: свела их уединенная крестьянская жизнь пару раз в объятия друг к другу. Тихими летними ночами, когда родители были в отъезде, а Хольгер учился в Мюнхене на механика по сельскохозяйственным машинам. Крепко свела: до сдавленных криков и стонов, исцарапанной в кровь ногтями спины…
Заметно постаревший в последнее время глава семейства выслушал его внимательно, а потом с нескрываемой грустью сказал:
— Я знал, что так, в конце концов, и будет. Знал и, все равно, старый дурак, на что-то надеялся. Все эти годы мы жили одной семьей, говорили на одном языке. Вместе работали, вместе отдыхали, грустили и радовались. Ты ничем не отличался от нас. Ну, разве что волосы темнее, да нос с легкой горбинкой. Ни я, ни фрау Шульц, ни Хольгер… Ни даже Хельга… Мы не сможем тебя удержать. Да и не имеем морального права. Ты только запомни одно: сколько бы лет не прошло, в этом доме, пока он будет стоять, тебе всегда будут рады. Хорошей тебе дороги, сынок.
Вильгельм Шульц сам отвез Ефима до ближайшей железнодорожной станции. Они выехали из дома на рассвете, избавив всех от тягостной процедуры расставания. Скорее всего – навсегда.
Гомель встретил Гольдина непривычной суетой, красными флагами и транспарантами, совершенно незнакомым ритмом и укладом жизни. В двадцать шесть лет (а по документам – так без малого тридцать) жизнь нужно было начинать практически с чистого листа. Успокаивало лишь то, что и вся огромная страна делала то же самое.
На месте дядиного дома с магазином был пустырь, а куда делась семья пана Тадэуша, никто из живущих поблизости, совершенно незнакомых Ефиму людей, не знал. Да он, собственно, сильно и не интересовался.
Как пострадавшему в империалистическом плену, Гольдину дали комнату в коммунальной квартире, помогли устроиться на работу. Ефим пошел продавцом в продуктовый магазин. А куда еще? Полей и шахт здесь, к счастью, не было, а ничего другого он делать, собственно, и не умел.
Первое время мысли нет-нет, да и переносили в фахверковый дом в Баварии, на пшеничное поле, разрезанное на две неравные части веселым журчащим ручейком. Но постепенно воспоминания накатывали все реже и реже.
А потом Ефим встретил Аню. Маленькую, худенькую, черноволосую. Она была еврейкой и сиротой. До октября 17-го жила у богатой бабушки в центре Гомеля. Большевики бабушкин магазин и гостиницу национализировали. А их бывшую владелицу через два месяца унес в могилу сердечный приступ. Ане осталась маленькая квартирка рядом с железнодорожным вокзалом и умелые руки портнихи. Она ничем не походила на светловолосую статную Хельгу, что, наверное, было и к лучшему.
Старшего сына они назвали Вилли – сокращенное от немецкого Вильгельм. А его младшего брата, родившегося через семь лет – Фридрихом. Соседи тихо предостерегали: могли бы выбрать имена детям не столь вызывающие. Ефим в ответ отшучивался: «С Германией у нас дружба и взаимовыгодное сотрудничество. Да и Энгельса тоже Фридрихом звали».
На вторую в жизни Гольдина мировую войну его призвали 28 июня 1941-го. За шесть ее первых дней он успел отправить семью на Урал и уходил на фронт со спокойной душой.
В силу далеко уже не юного возраста Ефима определили в стройбат. Строить землянки и блиндажи, сколачивать плоты для переправы через реки. Не курорт, конечно, но и не в самом пекле. Еще его иногда вызывали помочь в допросе пленных солдат вермахта.
А летом 44-го, когда на фронте было относительное затишье, к курившему в тени раскидистой ели Гольдину неожиданно подошел командир батальона:
— Ефим, тебя вызывают в штаб армии.
— Меня?! Зачем?
— Не знаю. Только что передали по рации. Так что, собирайся и иди!
Идти надо было километров семь или около того по усыпанной опавшей хвоей лесной дороге.
Дежурный по штабу направил его в кабинет к какому-то майору. Тот вежливо поздоровался, предложил сесть и положил на стол перед Ефимом стопку чистых листов бумаги:
— Товарищ Гольдин, напишите, пожалуйста, свою биографию. Только очень подробно.
Писать пришлось больше двух часов. Майор не торопил, только курил одну папиросу за другой, стоя у распахнутого настежь окна. Когда Ефим с вздохом облегчения отложил в сторону ручку, хозяин кабинета, не читая, спрятал листки в один из ящиков большого письменного стола:
— Спасибо. Вы свободны.
И опять под ногами те же густо сдобренные хвоей километры, только уже в обратную сторону. Вокруг весело щебетали лесные птицы, в густой траве шуршало мелкое зверье. Ефим с наслаждением впитывал эти мирные звуки, не догадываясь, что слышать их в ближайшие две недели ему придется еще не однажды.
В штаб армии он ходил шесть раз. Писал подробную биографию, отдавал листки молчаливому майору и возвращался назад уже хорошо знакомой лесной дорогой.
На седьмой майор не стал сразу прятать написанное, а, бегло прочитав, неожиданно улыбнулся:
— Все хорошо! С этого момента, рядовой Гольдин, вы будете служить в военной контрразведке переводчиком.
И опять нескончаемой чередой потянулись обычные фронтовые будни. Только теперь Ефим ходил в новенькой солдатской форме, ел офицерский паек, спал на кровати, застеленной хрустящим бельем. А уж возможностей поговорить на немецком было хоть отбавляй. Иной раз не только днем, но и ночью.
Война медленно, но неотвратимо катилась туда, откуда и началась. Белоруссия, Литва, Польша, Чехословакия…
В конце апреля 1945-го Гольдин ехал в трофейном «Опеле» вместе со своим командиром и шофером по направлению к Мюнхену. И вдруг увидел в раскрытое окно машины когда-то такой знакомый, а сейчас уже основательно стершийся из памяти фахверковый дом на пригорке. Его командир – все тот же немногословный майор, дослужившийся теперь до полковника, охотно согласился сделать небольшой крюк. Всю эту историю он хорошо помнил из той, многократно написанной Ефимом два года назад автобиографии.
На шум подъехавшей машины в дверях дома показался грузный немолодой уже мужчина. Увидев вышедших из «Опеля» трех человек в форме Красной Армии, он заметно побледнел. Потом сделал несколько коротких шагов навстречу, близоруко щурясь. А несколькими секундами позже окрестности огласил радостный крик:
— Мой Бог! Ефим!!! Как я рад тебя видеть!
В общем, пришлось товарищу полковнику связываться по рации со штабом и рассказывать наспех сочиненную «сказку» о том, что по дороге возникли непредвиденные обстоятельства и к месту назначения они доберутся только завтра.
В доме уже вовсю хлопотали жена и две дочери Хольгера, накрывая стол для дорогих гостей. Понятно, что оба спутника Ефима попали в их число совершенно случайно, но нынешнему хозяину дома на это было глубоко наплевать. Извинившись с помощью того же Гольдина перед господином полковником, Хольгер увел Ефима на второй этаж, чтобы хоть немного побыть вдвоем и поговорить.
— Ну, рассказывай, как жизнь у тебя сложилась после возвращения на родину?
— Нормально. Как у всех там, — Ефиму, честно говоря, было как-то не по себе. – Приехал, нашел работу. Потом женился…
Он говорил односложно, с большими паузами, лихорадочно пытаясь разобраться в своих чувствах. И вдруг понял, что у Хольгера в голове должна сейчас быть такая же неразбериха. С одной стороны, все люди, одетые в такую же форму, как и Ефим – враги. Хорошо, пусть даже не так резко: оккупанты. Они пришли с оружием на его землю. Но, среди них неожиданно оказался почти названный брат – и все сразу изменилось…
— Знаешь, Хольгер, у меня два сына растут. Старшего я назвал Вилли, а младшего – Фридрих.
— Да, был бы жив отец – очень обрадовался. А Хельга после твоего отъезда несколько недель ходила заплаканная. А потом собралась и уехала на север. Поселилась в Ольденбурге, потом вышла замуж, родила трех дочерей и сына… Уже год от нее не было вестей… А немецкий у тебя такой, как и был – как будто и не уезжал.
На утро тяжелее всех пришлось водителю: полковник с Гольдиным могли хоть немного прийти в себя, подремав часок-другой на заднем сидении.
Хотя Ефиму не спалось. Расставание с Хольгером и его дружной семьей получилось очень тяжелым. Если два десятилетия назад он только предполагал, что уезжает навсегда, то сейчас – знал точно. И от этого знания было невыносимо грустно.
Эта война закончилась для рядового Гольдина только в начале 46-го. Дома его встречали уже давно вернувшиеся из эвакуации жена и заметно повзрослевшие сыновья.
А весной Ефим случайно оказался по каким-то делам в районе железнодорожного вокзала. Там как раз садились в эшелон расконвоированные (как тогда говорили) бывшие солдаты и офицеры вермахта, возвращавшиеся на родину. Один из них что-то спросил у Гольдина на ужасном русском языке. Ефим предложил ему повторить вопрос по-немецки. И вместо ответа увидел раскрытый от удивления рот:
— Не может быть! Земляк! Что ты здесь делаешь?
— Нет, — смутившись, сказал Гольдин. – Я не немец, я – еврей. И большую часть жизни прожил в этом городе.
— Да ладно! Здесь ты можешь рассказывать эту сказку кому угодно. Но на этом диалекте немецкого ТАК говорить могут только урожденные баварцы. Уж я-то это точно знаю.
Гарбсен, ноябрь 2007 г.