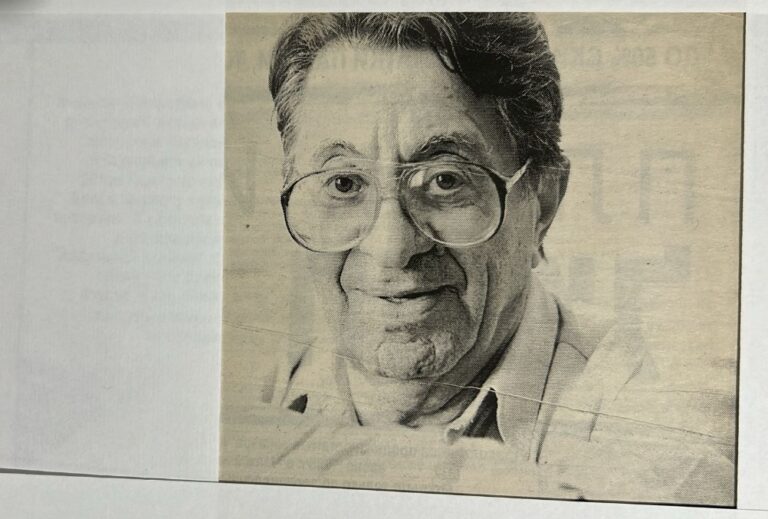Из того, что мне удалось прочесть в Сети об этих портретах, не складывается ответ на первый же возникающий вопрос: как такое вообще стало возможным в древности?
 Позади, до первого века н.э., у создателей этих произведений – строго ритуализированные изображения древнего Египта и нормативно стилизованные росписи Эллады. Наше бесконечное восхищение этими шедеврами нисколько не отменяет впечатления их условности, безличности, декоративности. Человек в них трактуется как форма: как варьирующийся прекрасный узор, обозначающий человека. Портретное сходство не являлось задачей. Характерно своего рода типизирование и тиражирование персонажей – не только рядовых воинов, земледельцев или атлетов, но также знати, властителей. Изображения людей были призваны фиксировать некий высший порядок в мире, воспринимаемый зрителем как неизменный и величественный.
Позади, до первого века н.э., у создателей этих произведений – строго ритуализированные изображения древнего Египта и нормативно стилизованные росписи Эллады. Наше бесконечное восхищение этими шедеврами нисколько не отменяет впечатления их условности, безличности, декоративности. Человек в них трактуется как форма: как варьирующийся прекрасный узор, обозначающий человека. Портретное сходство не являлось задачей. Характерно своего рода типизирование и тиражирование персонажей – не только рядовых воинов, земледельцев или атлетов, но также знати, властителей. Изображения людей были призваны фиксировать некий высший порядок в мире, воспринимаемый зрителем как неизменный и величественный.
Впереди у Фаюмских портретов, т.е. после третьего века н.э., – длительное торжество канонизированных форм передачи лица и тела, с приматом плоскостной, т.е. опять-таки условной трактовки человека. Пройдет едва ли не полторы тысячи лет, пока не возникнет портрет в собственном смысле слова – правдоподобная фиксация индивидуальности оригинала, даже если оригинал используется как фигура аллегорическая. При этом портретисты Возрождения не знали о Фаюмских изображениях, прикреплявшихся поверх лицевой части мумий в греко-римском Египте (эти мумии еще не были раскопаны!). Иначе говоря, портрет типа Фаюмского был открыт в древности, забыт, затем открыт заново, причем, открыт независимым образом. Это «второе» открытие портрета сопряжено с находками, но, мне кажется, — также и с потерями в сравнении с «первым». Возрождение решилось заменить условность правдоподобием. Но ни реализм, ни разнообразные формы отказа от реализма здесь не достаточны в качестве сопоставительных концептуальных рамок.
В Египте Птолемеидов, помимо коренного населения, египтян, оказались греки, римляне, евреи, армяне, сирийцы и другие мигранты, либо переселенцы. Все они переняли древнюю египетскую культуру погребения. Некоторые из них стали частью элиты и обрели средства, необходимые, в частности, для «устройства» покойного в загробном мире. Тело знатного человека подлежало мумификации. Поверх лица мумии размещалась, согласно традиции, ритуальная маска.
Но вот — что-то случилось: место маски заменил портрет усопшего. Причем, портрет не накануне кончины, а в расцвете сил! Из этого следует вот что. Погребальный портрет заказывался художнику еще молодыми людьми, сознававшими, что момент собственной смерти предугадать невозможно. Портрет хранился вместе с другими семейными ценностями в атриуме — в особом помещении внутри богатого дома. И извлекался, когда приходил срок.
Другое предположение: художник создавал портрет, воображая себе усопшего, каким он мог бы быть в расцвете сил. Это предположение кажется мне слишком далеким от реальности.
Дело в том, что на Фаюмских портретах люди предстают «как живые», с неповторимой индивидуальностью, с эффектом омывающего натуру воздуха и правдоподобием игры света на лицах. Поистине напрашивается мысль, что художники были пришельцами из будущего, воспользовавшимися «машиной времени». Сама трактовка ими человека уже позволяет считать их гениями. Она беспрецедентна, хотя и не родилась «из ничего»: существовавшие до этого античные фрески, например, помпейские, уже передают объем и натуральный цвет, хотя почти всегда изображают богов или героев (какими они должны быть), а не конкретного человека. Вот, для иллюстрации, одна из дивных помпейских фресок:
Но если мы предположим, что речь идет лишь о фантазии Фаюмских портретистов, о фантазии, отталкивающейся от лицезрения ими умирающих, либо покойников, то, право, уровень такой «игры воображения» превосходит самые смелые допущения о пределах гениальности. Предпочтем первую версию: портреты писались с цветущей натуры. Запечатлевалась незабываемая прелесть человека – та неповторимость его личности, которая не отменяется ни старением, ни самой смертью.
Итак, портреты, прикреплявшиеся к мумии, писались не на обозрение, не для публики, а для личной встречи умершего с некой Инстанцией за порогом жизни.
Скептические дети постиндустриальной цивилизации, мы находим эти портреты явно «идеализированными». Лица вызывают «слишком» большую симпатию, глаза «чересчур» велики и полны света, мысли. Художник что-то «приписывает» оригиналу. Пусть так. Но что именно?
На мой взгляд, в этих лицах, прежде всего, «чего-то нет». Нет притязаний на «богоравность», хотя тогдашние люди верили в безграничную благосклонность богов и еще не знали иудео-христианского страха перед Единым и Всемогущим. Нет высокомерия, хотя изображены члены общества, явно наделенные привилегиями и привыкшие к благосостоянию. Нет защитительной настороженности, хотя тогдашняя жизнь была более опасной, чем сегодняшняя. Нет жестокости, хотя не каждое лицо дышит добротой. Нет похоти – при том, что эти люди полнокровны и не чужды никаким желаниям. Нет слащавости, за которой всегда открывается самоупоение. Нет театральности, столь нередкой для Возрождения, повторно «открывшего» портрет как жанр. Возможно, там, в ушедшем в небытие Египте, и художник, и его натура ни на миг не забывают, что портрет – погребальный. Перед лицом исчезновения человек невольно отрешается от суетных страстей. Он пытается заглянуть в посмертное будущее и верит, что там окажутся «востребованными» те его черты (особенности характера и внешности), за которые его любили и которые делали его личностью в собственных глазах.На Фаюмских портретах человек впервые, видимо, в истории искусства предстает как личность. Как объект и субъект любви. Этот момент нелегко ввести в социально-исторический контекст. Мы привыкли думать, что личность, вообще, — продукт новейшей истории. Явление, неотделимое от эволюции христианской этики. Оказывается, личность вполне вырисовывалась в античном — языческом и рабовладельческом – мире. Фаюмские портреты кажутся мне первой артикулированной живописью манифестацией гуманизма. Впервые изображен не человек-узор, не человек-символ, a Тот, Кто способен воспринять и оценить и узор, и символ. Но главное — Тот, Кто способен утвердить и принять к сердцу достоинство Другого.
Этот уровень гуманизма определенно подвергся эрозии в последующие времена. Мы стали любить «идею» человечности, разучившись любить самого человека, не делая различий между индивидуальностью в ее полноте — и безликим шаблоном, социальным фантомом, вырывающим у общества свои «права человека».
Фаюмские портреты побуждают вспомнить строку Марины Цветаевой, которая заклинала читателя полюбить ее – «за то, что я умру». Люди на них и в самом деле живы: той неуничтожимой личностной сущностью, которая нам от них передается.
Возможно, произошедший «скачок» в изображении человека объясняется наложением эллинской культуры на древнеегипетскую. Небезынтересная область размышлений для культуролога.
И – ни одного имени тех художников! Имена погибли. Сколько угодно встречаем рассуждений о технике письма, о составе красок, о необычном для того времени отношении к цвету, свету, тени, мимике. Об отношении живописца к оригиналу специалисты говорят скупее: возможно, из-за ошеломленности. Как трудно представить себе внутренний мир этих мастеров! А еще труднее – понять способ создания ими школы, передачу мастерства от учителя к равномощному по духу ученику. Такая вот плеяда гениев. Что ж, обойдемся без имен, не в них суть. А чтобы почувствовать и сохранить в своей памяти образы этих гениев, я буду считать Фаюмские портреты их…автопортретами. Давно ведь замечено, что всякий портрет в некотором смысле оказывается автопортретом.