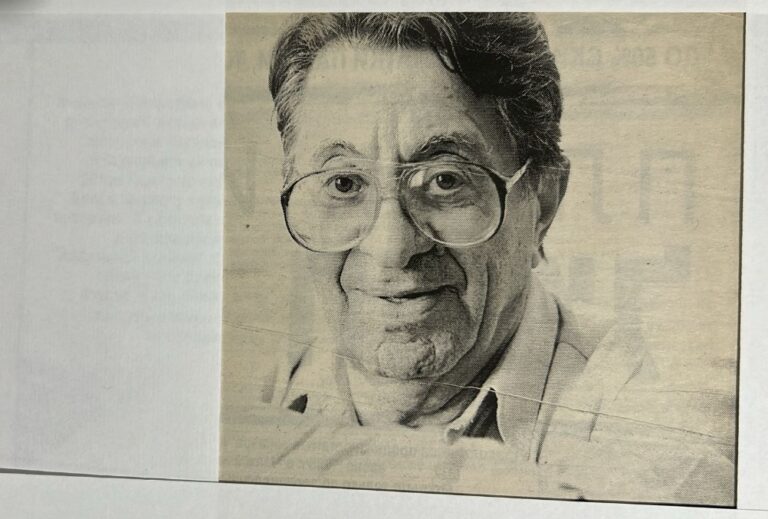…Крошки от сухаря покою не дают. Вроде и стряхнул их с груди, и уж не один раз… А они снова и снова нащупываются там, влипли напрочь будто. Мало того – они и на простыне – подо мной! Невыносимо просто: ёрзаешь и туда и сюда, то направо повернёшься, то налево – бестолку! Колют, заразы, мочи нет! Уж и левую, и правую руку, изогнувшись дугой, под себя запускал – безрезультатно! Ну что делать-то? Придется маму звать: самому явно с этими чертовыми крошками не справиться!
– Ты чего не спишь до сих пор, горе луковое? – Голос у мамы уставший и не очень ласковый. Она оторвана от своих тетрадей – проверки контрольной по ботанике. Но на выручку приходит. Я вынимаюсь теплыми сильными мамиными руками из своей зарешеченной кроватки и ставлюсь на табурет. С меня стаскивается измятая моя рубашонка, тщательно вытряхивается. Следом достаётся мой матрас вместе со скомканной простыней и вытряхивается тоже. Вот теперь попытаюсь, наконец, уснуть – совсем почти не колет…
В метре от меня сладко посапывает старший брат – Женька. Разница между нами – пять с половиной лет. Он уснул сразу, не ворочаясь. Неугомонный – «Овен»! Он уже пошел во второй класс. Совсем большой. Отличник. Родители его часто хвалят. Есть за что. Женька – весь в отца. Мастеровитый, смекалистый – «рукастый»! А спит он как убитый потому, что дотемна во дворе тяжелым трудом был занят. Выдалбливал ломом вмерзшую в лед черепаху. Они её вдвоём со Светкой выдалбливали, а я смотрел, пока домой не загнали. Светка – наша старшая сестра. Если мне четвертый годик, ей – уже одиннадцать. Ябеда и зануда. Всегда такой была. Черепаху они выдолбали в конце-концов. А потом Женька взял и тюкнул по ней ломом. Разлетелась вдребезги! А они со Светкой мечтали её оттаять за печкой, отогреть – чтобы ожила, а потом хвастаться перед всей улицей. Не получилась затея. А мне кажется, – если бы даже эта черепаха не раскололась, – все равно у них из их затеи ничего бы не вышло. Она, скорее всего, вмерзла в лёд уже неживая. Была б живой – так нашла бы себе подходящее убежище на зиму, как делают все её сородичи. Черепах у нас тут летом – пруд пруди. Елшанка потому что рядом.
Я уже начинаю засыпать. Сквозь слипающиеся глаза виден свет – из «зала», что сразу же за нашей с братом спальней. Зал – название одно! Едва вмещается родительская «двухспалка», стол, где мама почти каждый вечер готовится к школьным занятиям на завтра, да тумбочка меж двух окон. На ней – семейная гордость – радиоприемник «Нева». Слышна какая-то негромкая музыка. Сегодня спать можно, хоть и долго проклятые крошки не давали. Вчера же мешала бабка – ночными молитвами своими. Бабка наша – её все у нас зовут бабусей – страшно верующая. Её комнатушка-келья – ещё меньше, чем наша спаленка, в аккурат напротив через бездверный проём. Вчера, уже далеко за полночь, оттуда долго доносились её невнятные бормотания. Бабуся молилась. Различить можно было только «матерь божья, царица небесна» и, словно завели, – «господи спаси, господи спаси…». Этот монотонный речитатив изредка прерывался гулкими и весьма увесистыми звуками, словно когда по пустой бочке кулаком ударяешь. Это бабуся, распластанная ниц перед своим «иконостасом», в молитвенном экстазе изо всех сих била лбом об пол…
Бабуся – хорошая. И хоть очень строгая – зато справедливая. Мы её, детвора, немного побаиваемся. Потому что не терпит она никаких шалостей и проказ наших. Что не по ней – тут же кривую палку из плетня вытягивает и – только знай уворачивайся! Но догнать ей нас, быстроногих сорванцов, так ни разу и не удалось. Потому что у бабуси одна нога короче другой. И смешно и жалко со стороны наблюдать, как колченогая бабка, ругаясь на чем свет стоит, пытается любой ценой настичь и одарить хворостиной нашкодившего внука. Но цена эта явно слишком высока: после очередной подобной погони бабуся долго сидит на скамейке или завалинке, растирает потревоженную больную ногу и страдальчески морщится…
Зима у нас классная! Лето – тоже здоровское, но зимой – совсем не так, как летом. Одна ледяная горка у ворот чего стоит! Нам её родители – отцы – мой и Голдовский – дядя Ваня – лепили и заливали. Дети, кто постарше, тоже, конечно, участие принимали. Проблема таким, как я, совсем ещё сопливым, вскарабкаться на эту горку. А уж потом… Лёд скользит – словно по воздуху летишь. Не успеешь развернуться – помчишься прямо так, как вскарабкался, боком или вовсе задом наперед. А выносит – почти аж до середины Круторожной. А это расстояние – я вам доложу!..
…Нас, юной разношерстой уличной публики, колготится напротив нашего дома нынче – уйма сколько. Здесь не только мы втроем и живущие с нами под одной крышей Голденята (их, как и нас, тоже трое, только девки все). Но и соседские Михайлюки – Вовка, Колька и Толька. Драчун и задира Русин – тут же, где ж ему быть-то ещё. Виргизовы Витька с братом Генкой. Какие-то незнакомые мне брат с сестрой – к Михайлюкам в гости приехали. Даже Миша Костенко, который здесь намного всех нас старшие, почти уже парень – наш двоюродный брат по отцовской линии, – и тот в эту шумливую компанию влился. Повод серьезный имеется. На днях договорился кто-то из пацанов с дядей Колей Хлаповым, чей дом с нашим – через забор. У дяди Коли одного на улице лошадь, а, главное, сани имеются. Вот по поводу этих саней и договорились. Их нам хозяин на нынешний вечер в наше полное распоряжение предоставил.

Деревянные сани, огромные и тяжеленные, – но нас-то – вон сколько! – всей оравой катим к самому крайнему дому, где начало улицы. Здесь – спуск к Елшанке. Не очень крутой. Зато накатанный и скользкий. Всем гуртом, кто как сумел, размешаемся в дровнях. Пахнет лошадью и сеном. Вовка Русин – с одной стороны, Толька Михайлюк – с другой, делая вид, что им тяжело, спихивают сани с мертвой точки и запрыгивают в них на ходу. Помчались! Визг и писк, гогот и рев – неимоверные! Уже почти въехав – влетев! – на елшанский лёд, неуправляемая повозка наскакивает на какой-то прибрежный пенек и заваливается набок. Орем и визжим от восторга так, что собаки во дворах готовы цепи рвать от перевозбуждения. Все, слава богу, живы-здоровы. Счастья – полные штаны!
Елшанка зимой – источник искрометной радости и неизгладимых впечатлений. Узенькая и неглубокая летом, речка до неузнаваемости преображается к зиме. Ледостав – это не только про великие Сибирские реки. Про нашу Елшанку – в том числе. Невесть откуда взявшаяся вода вмиг, за одну ночь заполняет все низинные рытвины и канавы, накатывает на прибрежный кустарник, не раздумывая топит комелья высоких вековых деревьев, блаженствующих вдоль Елшанской поймы. Пацанам – самое то! Да и взрослым по душе. Елшанский лёд – безукоризненно ровный и гладкий, – нерукотворный каток, каких поискать ещё!
Меня в коньки не облачают – мал ещё. Довольствуюсь санками, которые, поочередно меняясь, неохотно тянут за собой мои брат и сестра. Женька со Светкой, Танька и Наташка – наши двоюродные сестры – завсегдатаи зимней Елшанки. Все они – на коньках. Коньки – «снегурки» – сыромятными длинными жгутами крепятся к подошвам валенок. Крепление – так себе, плохо держится. Наверное, силёнок не хватает – затянуть потуже. Минут через 10 -15 веревки ослабевают, «снегурки» проворачиваются и съезжают набок. Досада! Надо садиться на какой-нибудь пенек и заново всё перетягивать. Но пока этого не случилось – катайся в своё удовольствие! Что и делает вся окрестная детвора. А у взрослого Миши Костенко – единственного из всех, кто вышел нынче на лёд – коньки не то что у нас – настоящие. «Ножи» называются. Мало того, что прямо к специальным ботинкам наглухо прикручены, – ужас какие длиннючие! Мишка в них – настоящий конькобежец, прямо как на фото из «Огонька». Весь в облегающем трико, вязаной шапочке с помпоном, одна рука – за спину, другая – почти самого льда касается в свистящем махе… Мишка, едва ступив на лед, стремглав уносится от всех нас – вниз по речке, в сторону стадиона Авангард. На Авангарде – настоящий городской каток. Вот туда он и мчится – людей посмотреть, но – в первую очередь – себя показать. Катается Мишка, конечно, – нам всем далеко до него!
Дом наш по Круторожной, 12, – не слишком большой, но проживают в нем две полноценные семьи. Всего вместе с бабусей – 11 душ. Голды – дядя Ваня, тётя Нина (родная сестра моей мамы) и три их дочери: старшая – Наташа, средняя – Танюха и младшая – Любаша. Возрастная градация примерно та же, что и у нас. Светка с Наташкой – почти одногодки, наша лишь чуть-чуть – на каких-то полгода – старше. У Женьки «фора» над Танькой – в полтора года. Ну а мы с Любаней появились на свет в один год и почти одновременно. Она – в сентябре, а я – октябрьский.
Голды – самые близкие наши родственники. По географическим меркам – в первую очередь. А Любанька не просто моя двоюродная сестра – ещё и «молочная». Когда тетя Нина родила Любаню, молока у неё практически не было. Случается такое. Но страдать от молочного дефицита моей двоюродной сестре долго не пришлось. У моей мамы грудное молоко полилось – рекой. Вот и кормила она нас обоих – меня и племянницу – поочередно. Может быть (и скорее всего) именно по этой самой причине мы с Любашей чувствовали друг к другу ещё много лет потом – какое-то особое не только расположение и симпатию – а настоящее взаимопритяжение. Словно некий невидимый магнит был между нами. Без чудотворной силы маминого молока – одного на двоих – здесь явно не обошлось!
Граница между двумя семействами в нашем доме – более чем условная. Кухня – общая, русская печь – одна на всех, погреб в чулане также служит всем домочадцам. Детвора – то бишь все мы, шестеро, беспрепятственно болтаемся то на Костенковской части, то – на Голдовской. Скученно, да. Зато не скучно! Да и бываем мы дома – лишь когда спим, едим да уроки делаем. А так – всё самое интересное – вне его стен – во дворе да на огороде. Дворик напротив дома – манюсенький. Из построек здесь – курятник да сарайчик. Зато огород – ого-го! Огородище!
Он начинается с ветряка. Это высоченная деревянная мачта с огромным «вентилятором» на самом верху. И когда дует ветер, его лопасти с треском вращаются. Приводные ремни приводят в действие качок. Так добывается вода из глубоченного колодца. Вода (на вкус – солоноватая слегка) по трубе стекает в длинную бетонную ванну, поделенную на две части. Летом этой водой, прогретой на солнце, поливаются, одна за другой, поочередно, все грядки. Самотеком. Потому что уклон у огорода – весьма приличный.
Что растет на нашем огороде? Да что и у всех: картошка, лук, капуста, помидоры, огурцы… Из плодовых деревьев, вблизи дома, – две яблони: «Грушовка» и «Трансцендент». Раньше всех из лакомств появляется паслен. Его вдоль забора – видимо-невидимо. Никто его, понятное дело, специально не высаживает. Но он у нас чувствует себя великолепно. Черные поспевшие ягоды очень напоминают смородину. Только вдвое крупнее и очень мягкие. На вкус – приторноватые. Но мы, дети, паслен обожаем и с удовольствием – за обе щеки – поедаем его. Объедаясь и до поноса иногда. А бабуся изредка готовит нам пасленовые вареники. Сметанкой если приправить – вкуснотища!
В самом-самом конце огорода – ветла-громадина. Такой по всей Елшанской округе – раскидисто-величавой, чудовищно огромной – нет больше ни у кого. Хотя экземпляров поскромнее вокруг – множество. И у Шелеховых за забором ветла, и через огород от Шелеховых – тоже… До нашей им, конечно, всем далеко! Интересно, сколько взрослых рук понадобится, чтобы обхватить этот циклопический ствол? Думаю, не менее десятка пар, если не больше…
Когда уже потом, много позже, от нашей ветлы останется лишь огромный трухлявый пень, – в нём выдолбят нишу. А в ней легко, не теснясь, разместятся и большой колченогий стол, и несколько старых стульев, и даже двуспальная б/у кровать. Но эта беда с нашим древесным гигантом случится ещё не скоро. А пока… Мы, детвора, балдеем, катаясь на проволочных качелях, что соорудили нам под Деревом взрослые. Меж стволовых расщелин на приличной высоте укреплена длинная трехдюймовая (или потолще?) труба. От трубы к земле спускается сдвоенная, с палец толщиной, проволока. К проволоке надёжно приделана широкая доска, на которой легко умещалются две, а то и сразу три детских попки. Но лучше не рисковать – садиться по-одному. Потому что держаться нужно, вцепившись в проволочные «поводья», изо всех сил. Амплитуда у качелей – просто фантастическая! Главное – суметь раскачаться, ритмично болтая ногами и извиваясь всем телом. Затем – то поджимать, то выбрасывать вперед ноги, развивая успех. В результате этих стараний тебя выносит на такую головокружительную высоту, что виден даже тети-Сонин огород и саму тетю Соню, копошащуюся на грядках. А это – через целых четыре участка от нашего! Достигнув пика высоты (тело – горизонтально земле, а то ещё и под углом к ней), на какое-то мгновение зависаешь в этой точке, а затем – умопомрачительный полёт вниз – по обратной траектории. Лишь посвист ветра в ушах! Сердце, кажется, вот-вот выскочит вон из груди – и от страха, и от восторга!
У Ветлы листочки – длинные и вытянутые, словно Елшанская рыбёшка. Особенно на синтю, которую мы с братом иногда ловим майкой, похожа. У Дерева листва точь в точь такая же, как у кустарника, в изобилии растущего по речным низинам. Но этих листьев на дремучей ветле столько, что когда после серьезных предзимних заморозков начинается листопад, ими чуть ли не по колено заваливает огородную низину. В летнюю пору Ветла, ни на секунду не замолкая, шелестит. Этот шелест очень напоминает молитвенный бабусин шепот по ночам. Даже в самую безветренную погоду творится эта тихая древесная «молитва»…
На корявом стволе у нашего Древа – множество желто-коричневых наростов. Грибы. Иные, что помоложе, – мягкие и светло-желтые. Но в основном – потускневшие, корявые, коричневые, каменные на ощупь. Запах у этих грибов – ни с каким другим не спутать! А ещё у Дерева, если вскарабкаться чуть выше, имеется огромное дупло. В нём когда-то гнездилась какая-то пернатая мелочь. Шершавые внутренние стенки усеяны белесым пухом. Сейчас же по дну и стенкам этого «схрона» шмыгает множество крупных рыжих муравьев. Кусачие, гады!
Мы обожаем лазать на нашу ветлу. Тем более что делать это несложно – даже таким карапузам, как мы с Любаней. Со стороны огорода впритык к стволу высятся двухъярусные нары. Когда-то там любили коротать комариные летние ночи наши отцы. Но что-то с этими ночевками не заладилось, и нары, ветшая и обваливаясь прогнившими досками, безоговорочно перешли в наше распоряжение. С их помощью мы то и дело вскарабкиваемся в давно обжитую нами стволовую расщелину и устраиваем там свою обычную детскую возню…
…Драма гибели Ветлы происходила у всех на глазах. Однажды ранним июньским утром, после сумасшедшей ночной грозы, мы вышли из дома и оторопели: самая большая ветвь Дерева, искуроченная страшным разрядом молнии, была сломлена в аккурат у своего основания. Там, откуда она росла, метрах в трех вверх от земли, вразнобой торчали заостренные обуглившиеся щепы, то ли ещё продолжая дымиться, то ли обильно паря. Нижняя часть поверженной ветви оставалась лежать на этих жутких обломках, затормозившись в широкой древесной расщелине – излюбленном месте наших тогдашних игр. Большая же её часть рухнула прямо на огород, образовав многометровый наклонный мост. Следы чудовищной ночной катастрофы мы с братом увидели первыми. И тут же пошли – именно пошли, не полезли – по поверженной ветви – к тому месту, куда угодила молния.
…Никакого страха, что сорвемся, не было и в помине. Брат впереди, я – следом. Он мне даже руки не подает – незачем: шагается широко и привольно, как вдоль грядок. К тому же под ногами – надежная шершавая основа – древесная кора.
Эту чудовищную, сломленную грозой ветку потом – постепенно, частями – утилизируют, обрезая кусок за куском…
Рана, нанесенная грозой ветле, окажется несовместимой с её жизнью. Некогда величавое гигантское дерево (древо!) исчахнет за два года, активно гния изнутри. И чуть погодя от нашего чудо-Дерева останется лишь огромный трухлявый пень, который взрослые (я об этом уже говорил) приспособят под свои утилитарные нужды. Правда, истонченных стенок этой исполинской древесной ниши хватит, увы, ненадолго…
…Сразу за Ветлой, за забором, метрах в трех от калитки – Елшанка. Здесь – её правый рукав. Левый – метрах в сорока напротив. На острове этом сплетаются вершинами гигантские ивы и какие-то ещё высоченные деревья. Чуть подальше, в сторону ветлечебницы, – густой зелено-черный ольшаник… Летнее солнце, как ни старается, прорваться на этот заповедный клочок земли почти не может – настолько крепко переплетаются меж собой древесные кроны. Но вот здесь, прямо за нашим забором, косой солнечный лучик всегда плещется в прозрачной речной отмели, и глазам больно смотреть, как, искрясь, всеми цветами радуги переливаются на её донце отполированные течением камушки. Темно-красные, синие, бирюзовые…
…Остров… Нас тянет сюда магнитом. Здесь хорошо: в самую жару не жарко и как-то всегда по-особому волнительно на душе. Словно к тайне какой неведомой прикасаешься. Пахнет здесь по-особому: настоем прошлогодних трав, подгнившей древесной корой, речной тиной… Иногда в затоне на противоположной стороне мы с братом ловим крупных отъевшихся пескарей. Для ловли годится – за неимением ничего более подходящего – братова старая полинявшая майка. Она смешно пузырится, напоминая большой вздувшийся живот, и только держись елшанская рыбья мелочёвка! Порой в нашу майку даже некрупные щурята заруливают!
Купаться в жару – тоже на остров! Мы знаем, где речка поглубже. Чтобы было «с головкой» – вряд ли по всей Елшанке найти. Вот здесь, где речка раздваивается, растекаясь на свои рукава, – это в аккурат напротив ветлечебницы, – все мы и плещемся. Наша «команда» почти всегда в одном и том же составе. Это Танюха и Любаня Голды, соседские Толька и Галька, блезняшки, всегда летом гостящие у бабы Тоси Прониной, да мы с братом. Старшие сестры – Наташка Голда и наша Светка – иногда тоже к нам присоединяются. Вода – прозрачная и очень теплая. Там, где она нам по грудь, мы любим, взявшись за руки, хороводить, приговаривая: «Пароход качается, волны раздуваются, раз, два, три, пароход – тони!» С последним возгласом все дружно плюхаются в воду с подныром, держась там – кто сколько сможет. А потом, когда, фыркая и отплевываясь, выныриваем, – столько смеху и счастья!..
…Из моих самых-самых ранних воспоминаний той поры – эпизод, когда меня, двухлетнего карапуза, непомерное любопытство затянуло в наш старый полутемный сарай. Дверь здесь – всегда нараспашку. А внутри – столько всего любопытного и ранее не виданного! Для взрослых – обычный хлам, изношенный и уже малопригодный, а выкинуть вроде жалко… Вот и навалены по углам: старые затупленные лопаты с обломанными черенками, щербатые грабли, вилы о двух зубьях, торчащих в противоположные стороны, кирка без ручки, видавшие виды мотыжки… Какие-то дырявые корзины, ржавые бочки, колеса от телеги…Всё это «добро» свалено в сарайчике как попало. Где только было можно – там и бросали пылиться. А вот кто умудрился в углу за дверью, прямо у входа, «литовку» таким вот образом – прямо обухом к земле –пристроить? Коса – старая-престарая и сильно ржавая, но волнообразное острие отбито и отточено на совесть и подобного обращения с собой не прощает!
…Ох и орал я, когда это чертово лезвие вонзилось в мою левую пятку и прорезало её до самой кости! Кто-то из взрослых, прибежавших на мои вопли, нес меня от сарая к дому, а кровь из разверстой раны моей обильно орошала весь этот отрезок пути. Седьмой десяток вот уж на изломе, а сладковато-тошнотную боль ту, сам момент вонзания косы в плоть моей ноги помню, как вроде только что сие со мной случилось. Кстати, нитеобразный шрам от того пореза – на месте. Хоть сейчас можно дотянуться рукой и нащупать…
…Зря родители думают, что чувства стыда у малых их деток нет априори. Заблуждаются! Когда я вижу оголенных карапузов где-нибудь на людном пляже близ моря и как они, насильно оголяемые, испытывают неподдельные муки стыда, – я так их, бедных, понимаю! Стыд находиться прилюдно в «одеждах» Адама или Евы – явление сугубо социальное. И «жечь» оно может даже в самом нежном возрасте. Как это было в моём случае.
Сейчас можно лишь гадать, почему мои родители так легкомысленно относились к этой проблеме. Экономили что ли на моем нижнем белье? Неужели так бедно жилось в то время, что даже трусики для ребенка являлись проблемой? А, может, не торопились облачать в одежды часть моего детского тела пониже пупка, считая, что – оно и лучше так для здоровья – закалка, как ни крути! Спустя столько лет смею утверждать: моя тогдашняя «голоштанность» причиняла мне нестерпимые моральные страдания!
В этой связи вспоминается случай. К Голдам приехали друзья их семьи. Имен и фамилии по давности лет не помню. Подкатили к дому на казенном автобусе. Дядя Ваня в то время каким-то заметным начальником на швейной фабрике работал. Было, помню, безветренное летнее утро. Все вокруг оживленно засобирались: ура! Едем отдыхать на Урал! Вместе с Любаней взяли и меня – «до кучи». Как бегал по двору без трусов – так и поехал. Любаня быстренько сдружилась с дочкой дяди-Ваниных друзей, примерно нашего же возраста. И вот эти две смешливые девчонки всю дорогу, пока мы ехали, прыскали со смеху, глядя в мою сторону. Дискомфортно было мне и всё то время, пока шумная компания взрослых отдыхала на своём пикнике. Потому что эти две подружки не отставали от меня, бесштанного, нагло рассматривали меня в упор, тыкали пальцами в мою письку и заходились от хохота. Сколько было нам, детям, тогда? Скорее всего – три годика с «копейками», не больше. Более шестидесяти лет уж с тех пор минуло, а озноб стыда пробирает до сих пор!
…На эту же тему. Когда настало время нашей семье переезжать в новый дом, я вновь пережил шок, помнящийся и поныне. На кучу всякого домашнего скарба, среди матрасов и подушек, сложенных навалом в кузов грузовика, решили посадить и меня. Дабы пешком не вести. И вновь возникла проблема с трусами. Их у меня не было! Недолго думая, мама позаимствовала у тети Нины Любанины рейтузы. Были в те времена такие штаны из мягкой ткани с начесом чуть пониже колен – часть исключительно женского нижнего белья! В Любкинах рейтузах я и переезжал в наш новый дом. Весь путь, пока ехал в грузовике, и до самых тех пор, пока меня, наконец, не одели по-человечески – я сгорал со стыда!
Значительно более яркие и разноплановые воспоминания относятся к периоду после переезда нашей семьи в построенный отцом дом по адресу: переулок Левитана, 5. Где он, собственно, находится и сейчас. Ощутимая часть этих воспоминаний – из ранних – неразрывно связаны с местом, откуда мы переехали – домом 12 по улице Круторожной. Там остались и бабуся, и тётя Нина с дядей Ваней, и лучшие подружки – двоюродные сёстры – Любаня с Таней. Меня тянуло в старый дом сильнее магнита! Благо, идти было совсем недалеко. Метров сто от нового дома до Елшанского берега, потом – вниз по некрутому спуску, затем – по пойменному лугу к мостику через речку, дальше, на противоположном берегу, поднимаешься по некрутому подъему – и ты уже на улице Круторожной. Вся дорога моя к Голдам занимала не больше десяти минут быстрой ходьбы.
Однажды у дома Терентьевых, с которого, собственно, Круторожная и начинается, за мной погнался терентьвский гусь. Отделившись от стаи, со страшным шипом, вытянув шею, растопырив крылья, он вдруг бросился мне, мирно проходящему мимо, наперерез. Я, понятное дело, «ноги в руки» и ну что есть мочи – наутек. Страшный укус (точнее – ущип) в ягодицу – о, до чего же больно! – и я осознаю, что гусь мчался значительно быстрее за мной, чем я – от него. Как я орал тогда от боли и испуга – не описать!
…А брат часто вспоминает радугу, что одним концом своего коромысла упёрлась прямо в луг Елшанки – а аккурат напротив нашего огорода. И её, ярчайшую, с безукоризненно четкими делениями на все семь своих составляющих, замечательно было видно прямо со двора. И брату, по его словам, ужасно тогда захотелось побежать в это самое место – засвидетельствовать происходящее чудо, очутиться внутри него, войти, влиться в это семицветье, слиться с ним! Обычно такая эфемерная и далёкая, в тот удивительный летний вечер она была – казалась – совсем близкой и абсолютно досягаемой. Что-то тогда помешало – не побежал… Зато это фантасмагорическое воспоминание навсегда внедрилось в память брата. Об этой радуге он взахлеб рассказывает всегда, когда мы с ним вспоминаем наше детство. Этот рассказ его настолько эмоционален и восторг искренен, что в какой-то момент уже начинает казаться – а не со мной ли всё это было?
Отрывочны воспоминания именно о той поре, когда мы с Голдами совместно проживали в доме по Круторожино, 12. В три года (тем паче – до трех лет) всё ещё в этом хрупком мире для тебя хрупко. Хрупка и твоя память. Да плюс ещё нерационально избирательна. Некоторые её всполохи чудесным образом телепортируют своего хозяина в ту, почти безнадёжно растворившуюся в сознании, посему почти уже нереальную эпоху. Хаотично всплывающие эпизоды самого раннего детства ничего из себя, как правило, сверхординарного не представляют. Но вот почему-то помнятся всю жизнь. Вот одно из подобных…
Теплое летнее утро. Я, в одной распашоночке, видимо, только что проснувшийся, ковыляю от нашего крыльца мимо распахнутой двери сарая в сторону к Голдам. Вкусно пахнет пекущимися блинами, перебивающими въедливый запах гудрона. Гудроном топили обе печи в доме. И зря говорят (не раз я слышал), что запахи не оставляют следа в памяти. Ничего подобного – вспоминаются во всех своих нюансах! И на полпути меня перехватывает и возносит к себе на руки тётя Нина. Смеется и, похлопывая по моей перманентно голой попке, что-то восклицает – сюсюкающее и восторженно-веселое. Нет в её словах никакого особого смысла – одни эмоции. Нечто похожее овладевает, наверное, любым чадолюбом, когда в объятия к нему неожиданно попадает ещё теплый ото сна комочек детской плоти…
Или вот ещё эпизод из того почти нереально далёкого времени. Любаша сидит на горшке – в аккурат у стены веранды – в трёх шагах от нашего колодца. Я вижу, как она, закончив «процесс», поднимается с горшка. И – для меня шок! – у неё совсем нет «пепуна», который, в моём представлении, обязан у всех торчать чуть понижи пупка. «А у Любки – одна попка!» – первое, что из меня вырывается с громким изумлением. Кто-то из взрослых, приводя меня в чувство, долго объясняет мне, несмышленышу, что Люба – не мальчик, а девочка, что так они, девочки, все и устроены. И не попки это вовсе продолжение – а пепка у них такая… Именно тогда был дан толчок моему гендерному самоосознанию, интересу к противоположному полу, и доселе не желающему угасать…
…Всё самое-пресамое в жизни – фактически жизнь сама – началось, конечно, на Левитана, 5. И осели глубоко в мозговых дебрях намертво, несмываемой патиной, события, происходившие именно здесь. Или так или иначе связанные с родовым нашим «гнездом», огородом, переулком – всем тем, что географически (да и по другим параметрам) были связаны с этим местом на Земле.
Уже отсюда – из этого «колодца» – можно черпать и черпать – щедро и беспрепятственно, ибо и обилен он, и весьма глубок.
…Всегда (но особенно в юные годы) мечтал вести дневник. Много-много раз начинал это делать, всякий раз клянясь самому себе, что – никогда не брошу! Увы… Теперь вот спохватился… Может – и к лучшему? Словно мелкий сор, отсеялось всё малозначимое, тривиальное, ординарное. Всё наиболее значимое – осталось и рвется, торопится быть запечатленным. Порой кажется, что сияет оно в своей первозданной нетронутости. Бери и записывай – не ленись. С последним – проблема. Но – пишу ведь всё-таки, пусть и не ежедневно, как собирался. И клубочек уже наматывается. Дай-то Бог!
…Когда жили под одной крышей с Голдами, часто и столовались вместе. Во всяком случае, дети могли беспрепятственно обедать: Голденята – у нас, мы (я – точно!) – на их половине. Очень часто – на две семьи сразу – готовила Бабуся. И к её борщу я, как выяснилось, привык настолько, что когда мы, семья Костенко, отделились во всех смыслах в результате переезда в собственный дом, – мамины обеды (в особенности – борщ) поначалу начисто браковал. И в первый год нашего переезда стало уже чем-то вроде традиции, что я, когда наступал обеденный час, бежал через речку – к бабусе. Она осталась жить с Голдами: дом-то Круторожинский принадлежал ей. Меня на Левитана, как ни странно, в этом порыве не сдерживали особо, а бабуся и Голды – всегда лишь привечали. Что уж там такого особенного я находил в бабусином борще? Но хотел именно его и бегал к Голдам под этим предлогом ежедневно и очень долго. А после обеда оставался, как правило, играть с сестрами, с Любаней – в первую очередь.
Однажды за мной, явно нарушавшим (в глазах родителей) все законы гостеприимства, отправили Женю – чтобы он забрал меня, заигравшегося, наконец-то домой. Не забуду, как я отчаянно протестовал, всячески препятствовал брату выполнить родительское поручение, вопил, кусался и царапался, вызывая понятную у него ответную реакцию. На эти крики вышла бабуся. И Женьке от неё досталось тогда по полной! Он с позором вынужден был ретироваться и уйти восвояси – без меня!
Мой триумф и полнейшее фиаско брата – и всё благодаря вмешательству бабуси, её заступничеству!
Разве такое забудешь!?