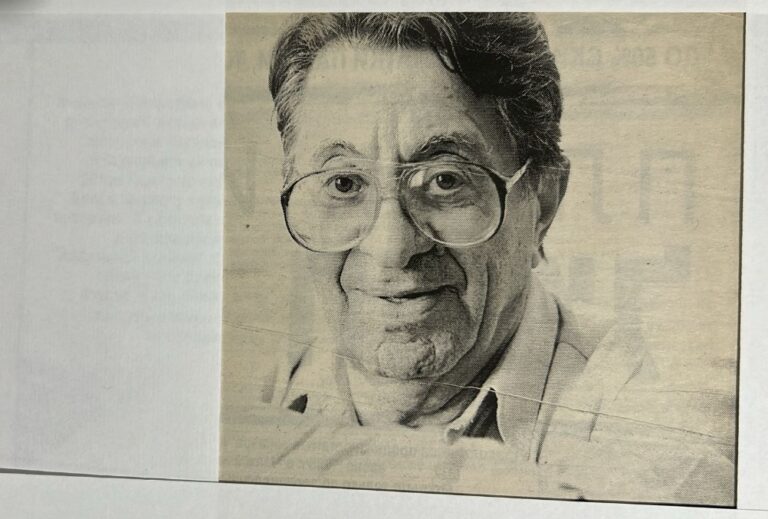Снег выпал среди ночи и вот лежал, застлав Крещатик тонкой накидкой без морщин.
-Лежит и в ус не дует! – с оттенком упрёка в голосе пробормотал Наум Кацман, разглядывая с порога гостиницы белый покров, на который накануне даже не было и намёка.
Наум Кацман был раздумывающий человек: его напрягала опасность того, что Луна упадёт на Землю. Каждый из нас, хоть раз в жизни, не без тревоги задумывается, почему это Луна висит себе в пространстве, без всяких подпорок, и не падает нам на голову. Потом мы забываем о нашей тревоге и больше не возвращаемся к ней. А Наум Кацман возвращался.
Он приехал в Киев в служебную командировку из Хайфы, где заведовал бюро по торговле сельскохозяйственным оборудованием. То была маленькая посредническая контора, коих народились большие тыщи на Святой земле; наши евреи хотели завтракать, обедать и ужинать, хотели ходить в кино и рожать детей – и готовы были прилежно посредничать в торговле хоть поливальными брызгалками, хоть кошерными крабами, хоть космическими спутниками. Киевская командировка вышла не случайной: Наум был местным уроженцем, он переехал в Израиль подростком, вместе с мамой-одесситкой, от которой папа ушёл к другой и скрылся навсегда за поворотом нашей жизни. Почему неполная семья бросила якорь в Хайфе, которая, по словам мамы, была похожа на Одессу, как свинья на коня, дать ответ было затруднительно; бросила, и всё. И Средиземное море плескалось в ногах города.
Тяготенья к лазурной вольной волне Наум Кацман не имел и курортное море, которое билось под горой, как бы вообще привычно не замечал. Тому были причины, и веские.
Купание в водоёме он считал занятием пустым, пережитком дикой старины. И прежде всего это относилось к морю: круглые сутки рыбы туда писают в силу природной необходимости. А потому в море – ни ногой! Этого правила Наум Кацман придерживался неукоснительно… Насчёт рыб – это было, конечно, игривой отговоркой; просто Наум моря не любил, он был по природе горный человек. Но кто, какой-такой рискнул бы поставить ему это в укор? В конце концов, где-где, а в таком деле человек безгранично свободен: хочет – купается в море, хочет – карабкается на гору.
Этот Наум был ближе к пятидесяти, чем к сорока; шлейф лет, влачившийся за ним, ещё не утяжелял его походку. Он не был удальцом-молодцом, но и размазнёй он не был: человек как человек, усреднённая персона, озабоченная состоянием луны в небе. Если получше вглядеться, из всего человеческого множества одних волнует луна, других – чужая жена, а третьи, «с глазами кроликов», принимают древнеримское замечание «in vino veritas» слишком предметно и близко к сердцу. Всяко может случиться с каждым из нас.
Киев нравился Науму Кацману: красивые дома, каждый на своё лицо, и улицы широкие, а народ совсем не вредный, хотя у них там на русской границе идёт война и люди гибнут. Почти как у нас – война идёт, вообще ни на день не прекращается, а чувствуем мы это, по-настоящему, только на кладбище: привыкли.
Городской вид, такой милый, не будил в сердце Наума ностальгических бабочек; может, они там дремали в виде неразумных куколок. Но и Хайфа, так непохожая на Одессу, что даже и говорить противно, ему не мерещилась этим воскресным утром с обледенелого порога гостиницы; он был человек сегодняшнего дня, романтический душистый ветерок его не щекотал.
Соступив с мраморного порожца, он попробовал ногою снег, как купальщик воду, прежде чем в неё войти. Снежный наст был скользок, и Наум Кацман, сойдя, переставлял ноги с большой осторожностью. Киев под снегом нравился ему меньше, чем вчера, без снега; да и зябко в израильской куртёнке на рыбьем меху.
Задумано было Наумом Кацманом пройтись по Крещатику до Бессарабки – знаменитого рынка, красочностью и богатством экспозиции не уступающего ватиканскому музею. Правда, птицы-сойки, подаренной одному из пап одним из американских президентов, на рынке нет, но это и ни к чему: там и так всего полно… Задумано – почти сделано: шаг за шагом по белой поверхности земли, потихоньку-полегоньку. Как верблюд на катке.
Бессарабка празднично пылала всеми цветами радуги; здесь выходных не бывает, праздник каждый божий день. Свою победу торговля торжествует без перерывов и без передыха, как будто Главный Проектировщик сам не отдыхал на седьмой день утомительной работы и людям ничего такого не заповедал.
Красная икра, как зёрна граната, и зёрна граната, как красная икра. Круглая Бессарабка похожа на сцену знаменитого оперного театра, и декорация роскошна, и волшебно овладевает залом триумфальный марш из оперы «Аида» композитора Джузеппе Верди, и волоокий торговец медовой турецкой хурмой вот сейчас разинет рот и запоёт арию влюблённого военачальника Радамеса.
Невиданные тропические цветы привезены сюда, в центр Киева, из дальних заморских стран – кажется, вместе с ними импортированы и мелькающие крохотные колибри, подобные разноцветно-золотистым искрам праздничного фейерверка. Чисто, тепло. Не видать меж рядов ни мордатых рыночных полицейских, ни базарной шпаны и карманников-щипачей. Вольный торг здесь правит бал! Браво, няня! Фруктовый центр посредине этой круглой островной Атлантиды окружён кольцевыми рядами рыб, птиц, мяс. Тёмно-бордовая черешня с загадочного острова Борнео, размером с райское яблочко, поглядывает на всё это разномясье несколько свысока. Так изысканная японская гейша с фарфоровой чашечкой чая в почти прозрачной ладошке скользит взглядом по сиволапому мужику в лаптях и собачьем малахае, с гранёным стаканом водяры в корявом кулаке… Девичья кожа абрикоса, нежнейшая, под которой уложена оранжевая плоть плода, хранящая аромат средиземноморского французского побережья: сбегающие к синей воде дома под капитанскими мостиками крыш, расползающиеся по жердям усики виноградной лозы, оливы в серебристо-зелёных полушалках, на плетёной ноге.
И рыбы расположились по своему прилавочному кругу. В доступной близости витрин смирно отдыхают метровые осетры с нахальным костяным носом и маленьким капризным ртом – эти, говорят, современники диких динозавров. Милые угри, растерявшие в коптильне всю свою пугающую змеиную юркость — они всецело смирились со своей грядущей застольной судьбой. А масляная рыба, неопределённого рода-племени, сущая лишь в виде подсоленного в меру филейного бока переливчатого цвета розовой жемчужины – я не встречал людей, которые видели бы эту рыбочку в её первозданном обличье, в водной стихии.
Соленья, варенья, меды, — и всё это драгоценное роскошество надёжно защищено кольцевым редутом сала. А как же без сала на киевской Бессарабке – слегка тронутого дымком или беломраморного, с розовыми прожилками? Эти прожилки, словно секретные знаки, тайная вязь на лоснящемся листе пергамента. Намётанный глаз профессионала распознаёт их, как знаток поэзии «Я помню чудное мгновение», а дилетант глядит плотоядно, не более того.
Наум Кацман был дилетант-практик. Переполненный впечатлениями, он вышел с рынка и побрёл по уже очищенному от наледи тротуару – подышать снежным воздухом и дать улечься гастрономическим эмоциям. Он не глазел по сторонам, и даже под ноги не глядел, а – в себя, и видел там тихое озеро в заросших пальмами берегах, и травяную поляну, и человека на ней, протянувшего руку к древнееврейскому природному корму, разложенному на блюде: финик, смоква, оливка. И эта дикая нищая простота почему-то пришлась ему в радость и диктовала приятный покой.
А Хайфу с её морем, висящим, как синий плед, на руке города – не различал.
Около лавочки «Цыбик» Наум Кацман споткнулся о лежащего человека. Над входом в лавочку, на деревянной рисованной вывеске, летел на всех парусах чайный клипер по золотым волнам моря, а человек залёг у самого входа в «Цыбик», для удобства подложив под буйную голову скомканную шапку-ушанку. Опасно покачнувшись на ходу, призадумавшийся Наум, чтобы не упасть, схватился за ручку входной двери под клипером. Дверь, открывавшаяся вовнутрь, послушно отворилась, и на пороге возникла девушка лет двадцати с малым, намеревавшаяся, как видно, выйти из чайного заведения наружу. Помедлив на пороге, она оглядела балансирующего в неловкой позе Наума Кацмана и привольно раскинувшегося на тротуаре гражданина.
-Извините, — сказал Наум Кацман. – Я об этого споткнулся и дверь вашу толкнул…
-Напился и спит, – констатировала девушка. – Ишь, разлёгся тут!
-Сладок сон трудящегося, особенно с перепоя, — подтвердил Наум Кацман.
Девушка подняла бровки и поглядела на Наума с интересом. То была приятная девушка, невысокого роста, с ладной фигуркой, где всё было расставлено по своим местам: грудь, бёдра, плавно-текущие руки.
-Вы к нам? – спросила девушка, сочтя разговор о спящем исчерпанным. – Заходите!
-А у вас тут что? – входя, спросил Наум.
-Чай, — сказала девушка. – Какой хотите.
-Чей чай-то? – продолжал спрашивать Наум Кацман. – Ваш? Магазин — ваш?
-Да нет! – улыбнулась девушка такому лестному предположению. – Помогаю я здесь.
По стенкам магазина, тесного и узкого, как вагон, разбегались от пола до потолка выдвижные деревянные ячейки с нанесёнными с любовью к делу каллиграфическим почерком сортами чая. Этих ячеек было штук сто пятьдесят или двести, и Наум Кацман одобрительно их разглядывал. Чего тут только не было, Бог ты мой! Чай индийский, китайский, цейлонский, японский, чай чёрный, зелёный, жёлтый, белый, чай Улун, Пу-Эр, Дарджилинг, Лапсанг и Рабуста, чай Липтон и Эрл Грей, тибетский Ча и фуцзянский Су-ча «Брови старца», чаи цветочные и фруктовые, не говоря уже о несколько загадочной заварке под названием Мудань.
-И вы всё это знаете наизусть? – с оттенком сомнения спросил Наум Кацман у приятной девушки, следовавшей за ним в его обходе чайного королевства.
-Не всё, — честно признала девушка. – Хозяйка всё знает, она за товаром поехала.
-А вас как звать? – спросил тогда Наум.
-Меня? Лина, — сказала девушка.
-А я Наум, — поторопил события Наум Кацман и поглядел на Лину внимательно – как она отреагирует на такое не местное имя.
Она никак не отреагировала. Наум так Наум. Может быть, это даже хорошо, кто знает.
В тесноте лавочки он ощутил исходящий от Лины воздушный лёт электричества, как будто она, стоя рядом, расчёсывала свою каштановую шевелюру черепаховым гребнем.
-Вы, наверно, приезжий? – высказала предположение Лина.
-Ну да, — сказал Наум. – Потом расскажу.
-Когда это «потом»? – уточнила Лина.
-Пошли перекусим куда-нибудь, — сказал Наум, — и я расскажу. За столом. А?
Пожилой парень и молодая девушка. За столом. Вечная картина.
Отправились, без лишних слов, в грузинский подвальный духан «Старый Тифлис» — там недалеко, рукой подать. Наум Кацман распахнул ворот куртки и вольно теперь шагал, уверенно вколачивая каблуки в подтаявший ледок дороги. Не тащиться же, действительно, как дырявой шаланде, рядом с чайной Линой, похожей на клипер!
Ознакомительные рассказы о Хайфе, пока шли, Наум перемежал выцветшими семейными воспоминаниями о старом доме на Подоле, где Кацманы жили до переезда в Израиль. Лина слушала вежливо, но наводящих вопросов почти не задавала, особенно про Подол. А посвящать ли девушку в подробности его одинокой жизни на берегу Средиземного моря, Наум ещё не решил. Как пойдёт, так пусть и будет.
На подходе к духану, осталось только улицу перейти, немного задержались: машины гудели, тормозили и останавливались, как будто кто-то взял и бросил бревно на дорогу, перегородил путь. Наум, придержав ход Лины, глядел, в чём причина задержки.
Улицу переходила, настороженно вертя точёной головкой на вертлявой шее, курица-пеструшка, а за ней тянулся врассыпную её выводок — пятеро цыплят. Совершенно непонятно было, откуда они здесь взялись. Водители машин вели себя по-разному по отношению к виновнице затора: одни, высунувшись в окно, весело смеялись во весь рот, а другие коверкали лицо злобой, ругались и жали на гашетку гудка. Наум Кацман, с блуждающей улыбкой, неотрывно глядел на озабоченную курицу с семьёй посреди города, в окружении толпящихся железных машин. В этой необычной картине заключалась живая тайна жизни, одна из её тайн, и, случайно с ней соприкоснувшись, приезжий Наум ощутил драгоценную нечаянную радость. Много-много лет, не испытывая ровным счётом ничего, Наум Кацман скользил взглядом по бледным, обмытым, обтянутым пупырчатой кожей курам в ближайшем к его дому супермаркете. И вот вам – здравствуйте! – на мокром асфальте, почти под колёсами, в самом центре Киева. Это Киев, красивый добрый колдун, явил настоящее чудо Науму – и он был благодарен чудеснику… Пеструшка благополучно перешла дорогу, вскочила на тротуар, отряхнулась всем своим пернатым телом и, в окружении потомства, исчезла в ближайшей подворотне. Затор рассосался, машины поехали. Мостовая пустела на глазах, как кинозал после сеанса. Кутая подбородок в шерстяной шарф, Лина терпеливо ждала, когда Наум Кацман насмотрится на дорожное происшествие.
Явление пеструшки с цыплятами, явившимися словно бы из иного, почти забытого, но не утратившего солнечной теплоты мира, показалось Науму Кацману добрым знаком: в придачу к случайному знакомству с чайной Линой, дуновение ветерка откуда-то из дальнего дедовского детства, из местечка Почины под Житомиром – это, хотелось верить, не просто так сплелось. Хотя, вообще-то, Наум не верил ни в приметы, ни в знаки, он был несуеверный человек, и такое происшествие – и чтоб так на него подействовало — сколько он себя помнил, впервые с ним приключилось. Этим воздействием он был приятно удивлён – до такой радостной степени, что даже неизбежное падение луны на наши головы отодвинулось на задний план: упадёт так упадёт, тут уж ничего не поделаешь…
Грузинский духан располагался в подвале, туда вела крутая лестница, втиснутая в каменный рукав, освещённый еле-еле: ресторанные площадки в городе шли нарасхват. Наум спускался первым, слыша за спиной, почти без зазора, лёгкое дыханье Лины. Ему хотелось чуть-чуть споткнуться, вцепиться в перильце – и остановиться, застыть, чтоб чайная девушка сходу на него натолкнулась и прижалась к нему хоть ненадолго.
За столом, в тепле и ароматном уюте, разговор поскакал рысью. Цинандали золотило бокалы, шашлык дружелюбно глядел с шампуров, а бледно-розовая форель лежала в овальном блюде, как Маха обнажённая на своей кушетке.
Науму Кацману было что рассказать чайной девушке. Вино способствовало лёгкому настроению, Наум через стол глядел на Лину, на её лицо, украшенное, словно драгоценной пряжкой, крупными светло-коралловыми губами. Он испытывал безмерную благодарность к девушке за то, что она, такая милая и молодая, согласилась пойти с ним, и он, без оглядки, готов был положить к её ногам весь мир, включая сюда и приморскую Хайфу.
Рассказывала что-то и Лина, но Наум пропускал её слова мимо ушей – он, начав, теперь желал решительно открыться перед девушкой настежь, раскатать перед ней, как ковровую дорожку, всю свою жизнь, и ему станет легко и ново. Такое случается иногда с немолодыми мужчинами, особенно по отношению к почти незнакомым женщинам, восприимчивым к чужому, как сухой песок к воде. И с каждой фразой, произнесённой над столом, над упругим грузинским хлебом, ему становилось всё легче и новей.
А подвальный духан жил своей праздничной жизнью, потому что насыщение едой это и есть праздник, и кто этого не видит, теряет многое. И вот, едоки за столами были заняты собой, они вели скучные разговоры о неудовлетворительном состоянии здоровья и курсе доллара; женщина с вялыми бледными волосами, переступившая из первой половины жизни во вторую, назойливо бубнила товаркам о каком-то Валере, который взял и отнёс её цигейковую шубу в ломбард, а ей прислал квитанцию по почте.
Наума Кацмана эти тусклые люди, привычно жевавшие свой корм, ничуть не занимали, а судьба какого-то Валеры была ему совершенно безразлична. Он обежал взглядом неровные стены подвала, побелённые нарочито небрежно, «по-деревенски». Над буфетной стойкой висела старательно, но без искры божьей выполненная копия с картины Пиросмани «Винный погреб», а по соседству одиноко чернел на белом поле стены, на гвозде, кавказский кинжал. Повешенный здесь для красоты, кинжал в кожаных ножнах был похож на клерка похоронного бюро в чёрном костюме, при исполнении обязанностей… Закончив праздный огляд заведения, Наум вернулся к Лине, к её тихому лицу.
Рассказ Наума Кацмана о его ровной, как доска, пресной жизни в приморской Хайфе: квартирка с каменным плиточным полом, строгая холостяцкая кухня, неизменный вид из окна на синий залив внизу, — этот сухой, без подробностей, набор тронул Лину; чуть наклонив подбородок, она глядела на рассказчика с дружелюбным интересом.
-Вот так и живём, — завершил свой рассказ Наум. – День да ночь – сутки прочь… Но это должно пройти.
-Когда? – участливо спросила Лина.
-Всё, что началось, обязательно должно закончится, — помолчав, сказал Наум Кацман. – Уже скоро…
-А «скоро» — это сколько? – переспросила Лина. – Долго или недолго?
-А это как посмотреть, — с удовольствием пожал плечами Наум. – Для одних «долго» это вся жизнь, лет, может, сто, а для других – четверть часа, за которые вся жизнь проходит перед глазами… Вообще-то, Время придумал Бог, а люди – маятник со стрелками и кукушкой. Но, может, Бог только пошутил, и нет никакого Времени. Нету – и всё.
-Вас слушать интересно, — придвинувшись к Науму Кацману через стол, насколько позволила столешница, одобрила Лина. – Вы говорите об одном, а получается, что обо всём на свете.
-Я люблю слова, — сказал на это Наум Кацман. – Другой человек любит лесные орехи, а я люблю слова. Всё дело в разнице.
-Когда вы там, около магазина, — продолжала свою мысль Лина, — сказали насчёт трудящегося, который спит, я сразу поняла, какой вы нации и что вы иностранец.
-Да ну? – удивился Наум Кацман.
-Да, — подтвердила Лина. – Потому что наши привыкли: спит человек – ну и пусть себе спит, кому какое дело. И никому в голову не придёт, работяга он или хоть граф.
-А насчёт нации? – разведал Наум. – При чём здесь это?
-Народ думает, — не задержалась с ответом Лина, — что евреи распяли Иисуса Христа, всех споили и устроили революцию. А я не верю.
-Почему? — спросил Наум Кацман.
-Другие за две тысячи лет просто бы испарились, — объяснила Лина, — а евреи живы-здоровы, и лечат в Израиле лучше всех, и уровень жизни высокий. Старики доживают до восьмидесяти лет и больше, я сама читала.
-Это потому что у нас апельсины дешевле картошки, — сказал Наум, удовлетворённый ответом Лины, — а чай вообще не разводят.
-Не растёт? – немного озаботилась Лина. – Чай?
-У нас всё растёт, — не дал прямого ответа Наум. – Плюнь на землю – вырастет пальма.
-Здорово! – сказала Лина доверчиво. – А у вас балкон есть? В квартире?
-Есть, ответил Наум Кацман. – Он как-раз на залив выходит.
-А что вы там держите? – продолжала расспрос Лина.
-Где?- уточнил Наум. — На балконе? Да всё. То есть ничего специально не держу, а так: раскладушку, мангал.
-А я бы там посадила чайные розы, — сказала Лина. — Вьющиеся.
Наум Кацман представил себе розы, оплетшие перила его балкона, и ему понравилось.
-Вот вы про кухню говорили, — продолжала Лина. – А что вы готовите?
-Ну, что… — задумался Наум Кацман. – Кашу, например, и яичницу жарю. Пельмени покупные. Сухой суп можно кипятком развести – гороховый, гуляш.
-А я бы вам тыквенный пирог приготовила, — сказала Лина. – С цукатами и вишнями.
От такой заботы Наум почувствовал прилив тепла, и ангелы в его душе запели песни без слов.
-Мама научила? – спросил Наум.
-Нет, — сказала Лина. – Рецепт по телевизору слышала и записала. Они ещё сказали, что тыква – самый древний плод, а до него люди кормились чуть ли ни корой.
«Какая хозяйственная! – подумал Наум Кацман. – Рецепт пирога записала». Он был рад, что разговор не перетёк на маму – где она живёт, что делает. Ему не хотелось загружаться информацией о семье чайной девушки и вникать в обстоятельства её мамы, папы и братьев с сёстрами, если бы они обнаружились. Науму было по краешек достаточно её самой, и всякое дополнение нарушило бы гармонию и всё испортило. Лина на его кухне, у плиты.
К худу ли, к добру – но, как заметил раздумывающий Кацман, что начинается, то неизбежно и кончается в нашем мире, под луной, которая покамест не свалилась нам на голову, но чей полёт в бездне когда-нибудь непременно придёт к концу. И конец застолья уже проглядывал в духане «Старый Тифлис»: принесли чай с кизиловым вареньем в розетках.
-Принесите нам по рюмке коньяку! – попросил Наум, и официантка доставила заказ без промедления.
Под чай с коньяком Наум рассказал Лине о своём непутёвом сыне Якове, поменявшем место жительства с Хайфы на бразильский Манаус, женившемся там на индианке и зарабатывавшем на хлеб насущный преподаванием йоги амазонским дикарям. Опасения насчёт луны он решил покамест попридержать – не хотел перегружать мыслительный аппарат Лины глубокими раздумьями. Надо сказать, что от вина, коньяка, а особенно от истории с бразильским Яковом, затеявшим приобщать диких аборигенов к индийской философии, чайная девушка немного одурела.
-А дикари – людоеды? – подавленно справилась Лина. – Это ж просто ужас!
-Ничего, ничего! – успокоил девушку Наум Кацман. – Наши евреи теперь ещё и не такое вытворяют. Совсем с ума сошли!
Это, конечно, не относилось к бывшему киевлянину Науму Кацману, и Лина ни на миг не усомнилась в его совершенной нормальности. Поднявшись из-за стола вслед за Наумом, девушка доверчиво и благодарно просунула ладошку ему под локоть, и так, рука об руку, они двинулись к выходу из подвала, к лестнице, круто ведущей вверх.
Там было сумеречно, почти темно, и латунный глаз единственной лампочки под сводчатым потолком еле освещал крутой и узкий туннель коридора. Поднимались ощупью, держась за стенку и проверяя ногою надёжность ступенек. Казалось, что этот притемнённый ход был проложен не из духана «Старый Тифлис» на киевскую улицу, набитую людьми и машинами, а далеко-далеко отсюда соединял он несоединимое – земную твердь с запредельной высью, и ангелы, похожие на Марселя Марсо в гриме, скользили вверх и вниз по лестнице, бережно задевая Наума Кацмана и Лину.
Посреди подъёма, не доходя выходной двери, чайная Лина оступилась и упала бы в темноте — не раскинь Наум руки и не подхвати он девушку в объятия, лицом к лицу. Губы их сблизились и сошлись, время прекратило отщёлкивать мгновенья и остановилось, и Наум ощутил удар счастья, о существовании которого забыл, а, может, и не знал никогда.
-Какие у тебя губы… ласковые, — медленно возвращаясь к земной жизни, сказал Наум Кацман. Больше он ничего не сказал.
-Все мне так говорят, — откликнулась Лина, и в её голосе Наум расслышал то ли гордость, то ли неловкость. И вслед за ударом счастья почувствовал укол ревности. Но, в конце концов, счастье и ревность располагаются неподалёку друг от друга.
-Поехали ко мне? – замирая, спросил Наум, когда они вышли на свет, на поверхность земли.
-Вечером приду, — сказала Лина. – Мне ещё в магазин надо, а то хозяйка вернётся, а меня нет.
-А у тебя муж есть? – спросил Наум. – Или…
-Разве это имеет значение? – от чистого сердца ответила Лина Науму Кацману.
И перешёл вечер в ночь, перетёк плавно. И, не мигая, глядела луна в окно гостиничного номера Наума Кацмана.
Ночь – двуликий Янус, опытный врач и верный палач: лечит, возвращая силы, или же отбивает спящего от стада и уводит в беспредельное синее поле.
Наум лежал на спине, неловко подоткнув подушку. Ему и в голову не приходила мысль повернуться на бок, подвинуться: он бы тогда спугнул чайную девушку, спавшую беззвучно у него на груди. А к нему сон никак не шёл на этом их празднике.
Позвать её в Хайфу он придумал ещё днём, когда вернулся в гостиницу и сидел внизу, в кафе, перебирая в памяти всё с ним случившееся с утра: снежок под ногами, роскошь Бессарабки, спящий мужик на пороге чайной лавочки. Лина, «Старый Тифлис». Лестница, по которой бегали ангелы! Тёмная лестница, где счастье негаданно на него обрушилось.
Он чуть скептически улыбался над своей третьей или пятой чашечкой «экспрессо»: Лина с противнем в руках, печёт тыквенный пирог, за окном кухни синий хайфский залив. А что тут такого! Этот набросок тоже умещается в картине счастья, которое уже началось и продолжение которого наступит этой ночью… Приглашение он приберёг к ночи: пусть будет для неё сюрприз! И полетим вместе, не откладывая ни на день. Завтра, всё же, не получится. Значит, послезавтра. Первым рейсом. Надо ещё, чтоб она согласилась.
Она согласилась.
-Любовь – есть? — спросила она, сбросив одеяло и положив ладонь ему на грудь.
-Нет, — сказал Наум Кацман. – Есть притяжение слепое. И оно куда сильней.
-Тогда едем, — сказала чайная Лина.
Дела можно размазывать неделю, месяц. Можно управиться и за день – было бы желание отчаянное, намерение, какое не согнуть.
Наум и Лина управились – он со своими дождевальными устройствами и покупкой билетов на ранний завтрашний рейс, она с чайным магазином «Цыбик» и, наверняка, с ещё какими-то расплывчатыми слежавшимися делами, о которых Наум Кацман её не расспрашивал и знать о которых ничего не желал.
-Пойдём, поужинаем в «Старый Тифлис», — позвал Наум на исходе дня, когда они встретились, чтобы уже не разлучаться и ехать на рассвете на аэродром. – Там всё у нас началось…
-А вдруг курица опять пойдёт с цыплятами? — предположила Лина.
-Хорошо бы, — сказал Наум. – Это место зачарованное.
Смеркалось. Подъехав к духану, они постояли немного у входа, внимательно и молча глядя на дорогу, словно бы в ожидании тайного чуда. Но чуда не случилось: машины шли мимо сплошным потоком, сияя огнями и лаком, а пеструшка всё не появлялась. Как видно, чудеса бывают только в одном экземпляре.
Наконец, Наум шагнул к входу и толкнул дверь, за которой тёмная лестница круто вела вниз, в подвал.
-Держись за мной и, смотри, не споткнись, — предостерёг Наум.
Он спустился на одну ступеньку, Лина следом, и освобождённая пружина захлопнула за ними входную дверь. Нащупывая дорогу, Наум Кацман озирался по сторонам — он ждал ангелов, они должны были непременно появиться. Середина лестницы, Наум задержался на мгновенье: здесь вчера обрушился на него мягкий груз счастья… Переведя дыхание, он шагнул вперёд – и зацепил носком ботинка неровный край ступеньки, и споткнулся, и не удержался на ногах. Нелепо переваливаясь, он скатился до самого низа и ударом тела распахнул дверь, ведущую в ресторан.
И так застыл на пороге – скомканная фигура с вывернутой на бок головой.
Врачу «Скорой» не понадобилось много времени, чтобы удостоверить: перелом основания черепа. Смерть пришла мгновенно.
Чуда не получилось. Лина стояла в стороне, никто её не окликал и ни о чём не спрашивал.
Ей было страшно.
Апрель 2017